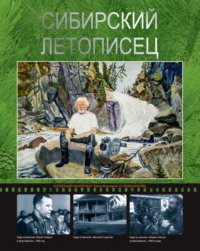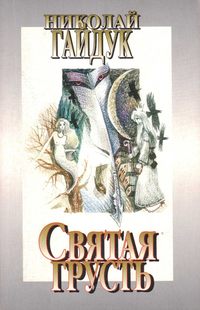Спасибо одиночеству (сборник)

Полная версия
Спасибо одиночеству (сборник)
Жанр: современная русская литературажизненные ценностисборник рассказовпроза жизнипревратности судьбыжитейские историивечные истины
Язык: Русский
Год издания: 2017
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу