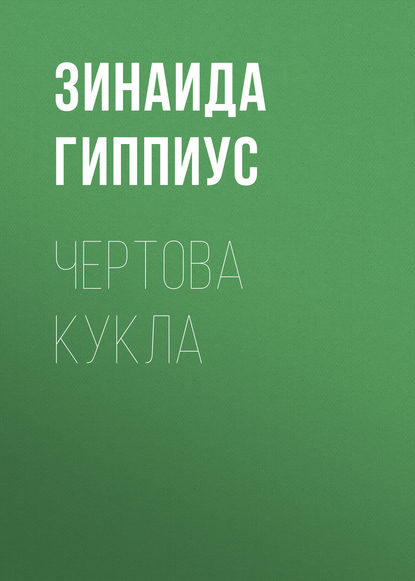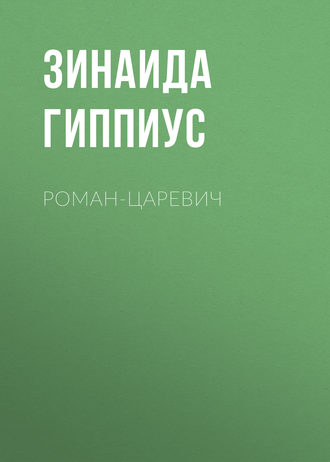 полная версия
полная версияРоман-царевич
Она не любила старого. Если боялась чего-нибудь, то вот этой неподвижности, уюта, длительности всего, что уже есть.
Села в кресло зеленое. Мысли опять вернулись к Роману Ивановичу. Странно: такую вещь он для нее делает, а ведь они по душе никогда и не разговаривали; отрывочно, о деле он говорил, о других, о ней, а о себе самом – никогда.
Вот чуть не два месяца его не было, – неужели так и не скажет, куда ездил, зачем?
«А какое мне дело? – сердито перебила она свои мысли. – Ездил и ездил. Нужно – скажет. Вздор какой».
В дверь тихонько постучали, и она тотчас же отворилась. Вошел Роман Иванович.
Ни разу еще не был он у нее в «классной». Не садился к столу, за которым она помнит Михаила – ее случайного учителя математики, и себя – девочку с распущенными волосами.
– Я с разрешения графини, – сказал, улыбаясь, Роман Иванович. – Вы не заняты?
– Нет, пожалуйста… Это моя бывшая классная. Садитесь. Я ничего не делала. Так…
Роман Иванович сел против нее. Абажур затенял смуглое лицо, только усы и твердый подбородок светлели.
– Я был в Париже, у Михаила Филипповича, – сразу начал он. – Хочу рассказать вам про эту поездку.
Литта онемела от неожиданности. А он стал рассказывать спокойно, обстоятельно, не торопясь, ничего стараясь не пропустить. Говорил о Жене, о их старом знакомстве, о Ригеле, о том, что успел подметить, хотя бы со вне, в жизни парижской; перешел на Михаила и на ему близких – Мету, Наташу, Юса, Володю…
– Мы очень часто виделись и много толковали с Михаилом Филипповичем о делах. К моему отъезду выяснились большие возможности соглашения. Судите сами…
– А… письма у вас нет? – перебила его Литта взволнованно.
– Михаил Филиппович просил меня на словах передать его горячую просьбу скорее приехать. Он надеется видеть вас месяца через два…
– Как? Не раньше?
– Он так говорил. Ввиду того, что вы сами решили не сообщать ему о нашем…
– Да, да, я не хотела. Значит, вы не сказали? Хорошо. Так, значит, Роман Иванович, Михаил и его друзья отнеслись к вам, вы говорите…
– С полным сочувствием. Я и не рассчитывал сейчас на что-нибудь очень определенное, торопиться не следует, факты же сложились.
И он опять перешел на разговоры с Михаилом в Париже, на листки, которые оставил ему.
Об одном лишь умолчал Роман Иванович: о письме, полученном от Михаила уже в Киле, на имя Сергея. Письмо было длинное, резкое, не очень связное, но Роман Иванович отлично его понял.
Особенно не огорчился. Этого можно было ожидать. Обойдется. А не обойдется – что ж делать. Была бы честь предложена… От Михаила он, Роман Иванович, никак не зависит. Напротив… Через Литту – напротив… Это хорошо, что у Романа Ивановича есть Литта. Веревочка крепкая, на всякий случай, если понадобится Михаил и «воинство его». А пока – пусть побунтует, дело не к спеху. Не убедил Роман Иванович – убедят уста женщины, в которую он влюблен.
И о Сергее рассказал Литте Сменцев. Насчет Михаила прибавил, однако:
– У него есть, по-моему, не то что идеалистический уклон, а неровность, что ли… Прозелитизм еще чувствуется. Подозрительность привычная. Резкие углы. Понимаете? Со временем пройдет.
Литта понимала. Взволнованная, розовая, она готова была без конца еще расспрашивать. Как серьезно и открыто он говорит с ней о деле, в котором они теперь с Михаилом почти вместе. Все хорошо. А потом будет совсем хорошо, должно, должно быть.
– Наша свадьба десятого января, – сказал вдруг Роман Иванович, перебив Литтины расспросы. – Желал бы, чтобы вы об этом тоже подумали. Не все о Париже!
Намеренно-грубо положил он смуглую, широкую руку на бледненькую ручку, лежавшую на столе.
Литта ее отдернула. И посмотрела на жениха измененными глазами. Опять недоверие в них, и неприязнь, и надменность.
– Не понимаю вас, – сказала сдержанно. – Меня более всего интересует Париж… и говорю.
Роман Иванович улыбнулся. Еще бы она понимала! Этот жест его – ведь это игра. Ему захотелось увидеть перед собою прежнюю злую и чуткую девочку. Знал, что в ней спит недоверие, и будил его, не боясь, нарочно; во всякую минуту мог усыпить снова. Было забавно – пока. Шалость. После будет не так; не то нужно, конечно. Нужно, чтобы она выучилась глядеть его глазами и чтобы это было естественно, и просто, и крепко у нее.
– Что с вами, милая? – заговорил он, меняя тон, дружески. – Вы на что-то рассердились. Но как же не подумать о свадьбе. Вот я целый час с графиней говорил… Надо условиться вместе.
Литта опустила голову. На что в самом деле рассердилась? И ведь не она – он ей оказывает услугу.
– Еще не поздно… – проговорила, однако, с упрямством. – Я, может быть, опрометчиво приняла от вас это одолжение. Мало ли какие неудобства…
– Неудобства большие, зачем скрывать. Но это мое дело. Заботьтесь о себе, – а я уж буду о себе. Никогда не лгал вам, вообще не лгу. Хочу жениться на вас – значит, хочу и сделаю, так и принимайте.
Очень был серьезен. Литта робко протянула ему руку.
– Ну, простите меня. Я такая… дикая иногда.
Роман Иванович вчуже залюбовался девочкой: хорошенькая была в эту минуту. Если бы страсть к женщине могла владеть им, – он влюбился бы в Литту: очень ему нравилась.
Но странен строй души Сменцева. Другие огни горят в ней. В другое пламя ввился бедный, вечный огонек человеческой страсти любовной – ввился и утонул в нем.
Роман Иванович не «девственник», – в том смысле, как понимает слово преосвященный Евтихий; но все же Евтихию не лгал он: что значат мимолетные полуравнодушные встречи, те самопроверки, которые ведал Сменцев? Литта нравится ему, влечет его – первая; но и с ней – воля и ум ясны; холодны мысли; горит, быть может, капризная страсть, – любовная ли?
Но понимал: в ней – к нему – должна быть эта страсть. Пусть будет, если иначе нельзя.
– Я ревную вас, Литта, – заговорил он медленно, с любопытством следя, как опять изменяется ее лицо. – Да, ревную. Я очень ревнив. Почему вы покраснели? – перебил он себя.
– Нет… Но я не понимаю, Роман Иванович…
– Опять? Сейчас поймете. Я ревную союзницу, товарища – к женщине, влюбленной невесте. Не Парижем интересуетесь вы, а вашей любовью, заняты вашим личным делом. Но ведь есть общее, в нем я вам не дальше, чем Ржевский. Вы забыли…
Взволнованная, Литта вскочила.
– Неправда, неправда! Да это вы нарочно, ведь должны же вы знать! Я так рада, что вы и Михаил – согласились вместе… С Флорентием столько говорили, мне так легко с ним…
– С ним?
– Да, прямо скажу: с вами труднее. Часто хотела о многом спросить вас, и не спрашивалось. А впрочем… – она запуталась, – впрочем, до сих пор… я и не могла… и не желала входить…
– Литта, послушайте. Из Пчелиного, от Флорентия тревожные вести. Застал здесь письмо. Я должен быть там; после десятого поеду. Хотите со мной? Это задержит недели на две, на три ваш отъезд за границу, но зато вы поехали бы туда уже с некоторыми сведениями, а кроме того, могли бы пригодиться в Пчелином. Я надеюсь. Вот мое предложение, – но как хотите, дело ваше.
Литта задумалась.
– Поеду, – сказала твердо, подняв голову. – Только… что могу..? Я ведь такая «барышня», Роман Иванович. Не льстите мне, я знаю, что ничего не знаю, ничего не умею. Но хочу уметь, быть другой. Попытаюсь.
– И не боитесь?
– Чего? – Она рассмеялась. – Нет, я не трус. Жизни не знаю, а ее не боюсь.
Помолчав, прибавила:
– Вас… вначале как-то боялась. Что ж, и я не люблю лгать.
С улыбкой Роман Иванович взял ее руку и медленно поднес к губам.
– Меня боялись. Этого я не хочу, слышите? Не хочу. Хочу другого. Ведь надо «не за страх, а за совесть»… Да?
Литта глядела в его неблестящие, упорные глаза, повторила, тоже улыбнувшись: «за совесть, конечно»… а сама опять почувствовала, что если не страх, то похожая на страх безвольная и сладкая боль окутывает ее; что на его «хочу» – такое «хочу» – она непременно ответит «да».
И опомнилась. Как облако, прошла мгновенная мара.
Уже другим, совсем обыкновенным голосом Сменцев говорил ей, что пора вернуться к старой графине. Только что стучалась Гликерия: чай подан.
Глава тридцать первая
«От камени честна»
– Убирайся ты ко всем чертям. Надоел. Без него не знают.
Целый день у Романа Ивановича покалывала печень, был он желт и капризен, а тут явился Варсиска, разводить рацеи, точно в самом деле без него не знают.
– Оказалась бутылка, дана тебе, ну и соси. Я не хочу.
Роман Иванович лежал на диване в первой комнате своей квартирки. Из Луги приехал сегодня отец Варсис, теперь сидел у окна, черный, за бутылкой любимого медока.
Монах одет был щеголевато. Он располнел несколько, а лицо даже залоснилось.
– Да что ж, Роман Иванович, тем приятнее, если сами знаете. Воздух неподходящий. Для красненькой, то есть. Рановато, ох, рановато. Черненькая – другое дело. Сама наклевывается. Таких штук понатворить можно. У иеромонаха отца Лаврентия войско народное готовое. Сам только глуп, как бы не промахнулся. А то, знаете, ежели тамошнее да со здешними дуновениями совокупить…
Роман Иванович нетерпеливо повернулся на диване.
– А ты зачем, болван, мне нагадил в Пчелином? Эх, обрадовался, навинтил, навинтил…
– Роман Иваныч, да я ей-Богу ничего особенного. Я старался по той, значит, нитке. Ну, покозырял несколько. Да Роман Иваныч! Теперь же их ничего не стоит на обратную сторону повернуть! Ведь последнего-то слова никакого не сказано. Бунтуй и бунтуй, а что бунтуй? Это все дальнейшее в наших руках. Там же и Лаврентьевы близко.
– Дурак. В наших руках! В руках – да не в твоих. Пусти тебя в Пчелиное!
– А я и рад, что не пустите. Здесь делов не обобраться. У графини этой я дважды был – ох, сколь поучительно! А тоже Евтихий преосвященный. Навещаю. Крутенек, а обойди его – овечка беленькая. Тут, Роман Иваныч, такая муть пошла, что какую ни задумай рыбку, ту и выудишь.
Сменцева раздражал откровенный цинизм Варсиса; раздражало и то, что он прав. Долго ли путешествовал Роман Иванович? Вернувшись, остро почувствовал, что воздух не тот, и все более меняется. Либо ждать, – ну, это не по нем, – либо…
– А уж на хуторе вы сами направите, как требуется, – продолжал Варсис. – Коли я понадоблюсь, – свистните, я тотчас же…
Хлебнул глоток темного вина, запрокинув голову. Видно было, как шевелится адамово яблоко на полном горле. Причмокнул, прибавил:
– Только вот одно смутительно: до того ли вам? С молодой женой теперь путешествовать отправитесь… Где уж! Дело понятное…
Роман Иванович приподнялся, сел и проговорил тихим от бешенства голосом:
– Ко всем чертям немедля убирайся. Чтобы духом твоим больше не пахло.
Варсис, не допив стакана, как был, схватился со стула и кинулся к дверям. Не мог он выносить этого знакомого – тихого голоса Романа Ивановича.
Так и удрал бы, забыв калоши, да Сменцев окликнул его из передней.
– Ладно. Вернись-ка. Поговорим толком. Дела есть. Но смотри! Ежели ты у меня еще осмелишься выйти из границ…
Подобрав рясу, тихонько прошел румяный монах к своему месту, к окну. И Роман Иванович заговорил о делах, пересилив и окончательно победив раздраженье. Допоздна говорили, даже к невесте в этот вечер не пошел Роман Иванович.
Свадьба назначена была на понедельник, десятое января. И понедельник наступил.
В ночь накануне вдруг проснулась Литта, будто ее толкнуло. Темно, черно, сна как не бывало. Ум и сердце ясны, особенно ясны. И в эту черную и светлую минуту совершенно точно поняла Литта, что проваливается. Ложь, в которой она жила, на которую пошла, сейчас отпустила ее, отвалилась ненадолго и, став к сторонке, показывала язык.
«Господи, Господи!», – прошептала девочка и вспомнила, что уже давно не молилась. Да и могла ли молиться в графинином доме, среди икон и лампад, среди вечных Федек Растекаев, шуршащих шелком иерархов, Антипиев с докладами, изобилия «божественных» слов, слушая которые, она часто содрогалась, как от кощунства.
И вот она прибегает для своих личных целей к той же церкви, средством для себя ее делает. Венчаться в нее пойдет, потому что так – выгодно. Будет лгать пред алтарем, – старая святыня, но ради новой не должно ли уважать ее, быть прежде всего честным?
«Боже мой, а как же он? Как же он этого не почувствовал, если верит со мной… с нами в одно? Верит ли он?»
Хотела зажечь свечку, встать – и не могла двинуться.
«Я с ума схожу. Зачем я не написала Михаилу. Или Флорентию. Да это наваждение… Господи, Господи!»
Страх, как в детстве, побежал по спине. Страх одиночества в темноте. Дрожа она с головой закрылась одеялом. И в духоте, в поту, незаметно забылась черным, тяжким сном.
Как в тумане встала. Безвольная, мутная. Коричневый, оттепельный туман стоял и на дворе. Изредка принимался падать мокрый снег большими хлопьями, похожими на грязные носовые платки.
В угрюмой и торжественной квартире графини не было заметно предсвадебной суеты. Да ведь и свадьба предполагалась «самая, самая скромная». Литта не имела подруг. Всякие «вздоры», вроде мальчиков с образами, графиня упразднила: «ce sont des языческие обычаи». Платье белое – это мило, это l'innocence[28]; а уж разные мещанские порядки – незачем. Богу надо молиться, а не пировать.
И тихие приготовления к свадьбе похожи были на приготовления к похоронам.
На минуту днем заезжал Роман Иванович; Литта и на него взглянула как сквозь туман, устало и бессмысленно.
Вот, в зеркале ее спальной – белая-белая фигура; белый шелк, белые цветы и белое, бледное личико, осунувшееся, испуганное как у маленькой девочки.
Вот она в карете. Дрожат мутные огни за стеклом, скоро-скоро мелькают падающие большие хлопья снега.
Вот красный ковер широкой лестницы. Да, хорошо, что эта церковь больше похожа на салон, чем на церковь.
Молодые, рослые гвардейцы, полузнакомые, – шафера. Отец, Николай Юрьевич, в шитом мундире. Что-то говорит… Как он неловко сейчас благословлял ее дома. Задел иконой вуаль… Шуршит серым шелком графиня. Она еще величественнее в белой наколке.
Шепот, шелковый свист, шорох, огни свечей, золото иконостаса… Поют. Да, уже давно поют что-то… Литта странно не заметила.
Белые вырезы жилетов… Кто это? Да это, кажется, он. Какой странный; просто чужой господин. Он и есть чужой. Что же удивляться.
Так ли она написала? Все равно. Идут куда-то, и чужой человек во фраке рядом с ней.
Жирное лицо полкового священника. Глаза узкие, словно щелки. Говорит неестественным голосом. Изредка слышит Литта неразборчивые слова. «От камени честна»…
«Честно, честно», – повторяет про себя, без мыслей. Оплывает свеча в руке, жгут слезы воска, падают, падают…
«Господи, когда же конец?»
Оплывает свеча, непривычное кольцо на руке ее, другая рука в чужой руке, идут опять, и путается шлейф ее белого платья, неловко поддерживаемый шафером, который тоже идет за ними.
«Славой и честью венчаяй»…
Честью. Опять честью.
Во рту еще терпкий вкус вина… Когда это было? «Чашу общую сию»…
Узкие глаза священника смотрят прямо на нее:
– Поцелуйтесь.
Мгновенное прикосновение жестких усов, близкий взгляд колючих глаз…
Конец.
Опять карета, кто рядом? Да он же, кто сейчас вместе с ней стоял в венце «от камени честна»…
Он молчит. Это хорошо. Молчание, молчание.
Шуршали колеса, бились в окно кареты мокрые хлопья снега – бело-серые птицы. Как быстро прочерченная полоса, мелькнуло воспоминание: лето, предгрозный ветер, в ветре почудившиеся слова: «хочу жениться на вас»… Далекое, далекое воспоминание, точно сто лет ему, точно не было – снилось. Не снится ли и теперь, все – что теперь?
Вот опять она в своей родной спальне. Переодеться? Да, уже приготовленное лежит ее коричневое дорожное платье. Новое, малознакомое. Теперь все будет новое. Это ничего, ничего.
– Гликерия, о чем ты плачешь?
– Да я от радости, барышня… Ох, извините, барыня молодая. Муженька-то какого вам Бог послал, чисто принц, Иван-царевич…
– Бог послал?
– Господь знает, что делает… Чисто Иван-царевич, говорю. Да и вы у нас королевна.
– Иван-царевич?
Она готова. Без последнего взгляда на классную, на кресло свое зеленое, на все, что покидает, – пошла в столовую. Светло. Какие-то люди, знакомые, полузнакомые. Говорят ей что-то – все одно и то же. Узнала длинное, лошадиное лицо княгини Александры. Целует, улыбается как-то странно, хитро.
– Однако пора. Карета подана.
Это голос ее «мужа», твердый, властный.
Сухие объятия бабушки. Запах jockey-club от ее носового платка – для маленьких слезинок. Дряблое лицо Николая Юрьевича, подставленное поцелуям.
Опять чернота, темнота кареты, молчание, – потом краткие шумы и светы вокзала, глухие звонки… И вот кончилось, кончилось. Чуть слышно постукивают вагонные колеса, покачивает на упругих рессорах, баюкает на пружинах дивана…
Роман Иванович в дверях купе.
– Вам больше ничего не нужно? Отдохните. Через полчаса провожатый придет сделать постель. А если бы я вам понадобился – мое купе рядом.
Литта едва слышно благодарит его. Нет, ничего не нужно. Впрочем, вот… ежели бы унести все эти цветы? Голова так болит.
Молча забирает Роман Иванович бесчисленные красные, розовые, белые букеты и, пожав протянутую руку, уходит.
Литта одна. Лечь бы скорее, спать, спать. Но голова очень болит, вот это первое. Оттого и туман, вероятно. Если б заснуть…
Спала или не спала? Ей казалось, что нет, все время болела голова, все время она думала об этом. А в окна глядит утро, мутное, белое.
В дверь стучат.
– Вы готовы? Москва.
Да, ведь они в Москву едут. Это хорошо, что не сразу дальше, что тут остановятся. Литта почти не раздевалась. Готова, конечно. Сейчас.
– На вас лица нет, – сказал Роман Иванович, взглянув на Литту в резком утреннем свете, в автомобиле Национальной гостиницы. – Скажите, вы нездоровы? Плохо спали?
– Да… Нет… Голова очень болела.
– Сейчас же раздевайтесь, ложитесь в постель и постарайтесь уснуть. Я бы даже советовал не пить кофе, ничего.
– Я и не хочу. Если можно…
– Непременно лягте. И спите хоть до обеда. Мне все равно нужно сейчас же идти по делам. Не скоро вернусь.
Его смуглое лицо было спокойно и свеже. Красиво разлетались брови под высокой, остроконечной меховой шапкой.
– Погода какая скверная, – сказал, глядя в окна, где мелькали вывески, чуйки, дровни, трамваи, близко-близко, так узки московские улицы.
И здесь была оттепель, лоснился коричнево-желтый снег-каша, плавал редкий, вонючий туман.
– Вот ваша комната, видите, прекрасная постель, раздевайтесь и ложитесь.
Он говорил так просто и так твердо, точно приказывал, – Литта и не подумала возражать. Покорно стала снимать шляпку, шубку, хотела уж расстегнуть башмаки. Вошла горничная.
– Вам помогут, спокойного сна, – сказал Роман Иванович и, наклонившись, поцеловал руку Литты. – Мой номер такой же, рядом, – указал он на внутреннюю дверь. – Я к вам постучу, когда вернусь, часов в пять.
Литта тихо разделась, легла на свежие, прохладные простыни широкой кровати за легкую ширму.
Поплыли мысли… Замелькали крупные хлопья, серо-белые птицы. Колеса вагона мерно отстукивали какие-то слова, и не ясные – и отчетливые, и длинные – и спешно-короткие. То будто с тяжелым нажимом: «раз-за-ра-зом проваливаешься, про-ва-а-ли-ваешься», – то скорее, веселее: «так не-льзя, ни-че-го, ни-че-го»…
Голова и во сне болела.
Глава тридцать вторая
До дна
Поздний обед Роман Иванович велел подать наверх, в просторный и уютный номер Литты. Она проснулась давно, еще в пять часов, но Роман Иванович посоветовал, войдя, не вставать сразу, если не хочется (а так не хотелось!), спросил чаю в постель.
К восьми Литта поднялась. Все на ней незнакомое, рубашка непривычная какая-то, кружевная. Накинула халат, – нашла в раскрытом чемодане, – тоже незнакомый и новый, фиалковый. Было в нем тепло и удобно. Бледные волосы заколола кое-как, около ушей круто завились они от горячей подушки.
Голова не болела, но точно пустая была, такая легкая и странная.
– Самый невинный обед я заказал, покушать непременно следует. Фрукты вы любите?
– Право, все равно… Благодарю вас, – тихо произнесла Литта, садясь в мягкое кресло. – Не знаю, что это со мною. Забот вам наделала. Я ведь крепкая и дорогу всегда так хорошо переносила.
– Ничего, это от волнения. Покушаете, выпьете вина – пройдет.
Принесли, действительно, легкий и вкусный обед. Литта думала, что ей не хочется есть, но стала кушать с аппетитом.
– Я велел шампанского, но много не пейте: полбокала только, голова опять заболит.
И он налил ей немножко. Два глотка оживили ее. Лакей убрал со стола, оставив вино и фрукты.
– А теперь мы с вами поговорим, Литта. Что, голова ведь лучше?
– Не болит совсем. Роман Иванович, право, мне стыдно. Возитесь со мной…
– Ну, пустое. Рад, что вы пришли в себя. Довольно вина, – прибавил он, улыбаясь, отодвигая бокал, за которым она потянулась. – Я хочу вас в трезвом рассудке и здравой памяти. Скушайте лучше еще персик, они славные.
Литта рассмеялась.
– Какой заботливый! Ну, о чем же мы будем говорить?
Ей было тепло и весело, хотелось ни о чем, ни о чем не думать, забыть хоть ненадолго, отдых дать голове; она такая странная, пустая. Ведь можно же, – ненадолго?
– Вы не барышня, вы просто девочка веселая и милая, Литта, – произнес Роман Иванович, любуясь нежно-розовыми пятнами, окрасившими ее бледное личико. – Такой и оставайтесь, смелой и веселой. Все будет хорошо.
Точно подслушал он любимые ее слова. Так часто она твердила себе: «все будет хорошо», и горячим теплом веры обливало ее от них.
– Какой вы… добрый, – сказала она и подняла на него светло-синие доверчивые глаза. – Я не знала. Я думала…
– Ну, об этом мы потом, после. А сперва – поглядите, что я вам принес. Видите? Вот ваш новый паспорт, отдельный. Иулитта Сменцева, жена… и т. д. Во всякое время, в Москве, где хотите, можете получить заграничный. Это ваша свобода. А вот дополнение к ней: банковая чековая книжка, – сорок тысяч. Остальные не реализованы, и через некоторое время…
– Потом, потом, я понимаю, довольно! – перебила его Литта, раскрасневшись. – Ах, Боже мой, да я еще не верю… Неужели вправду? И когда захочу…
– Когда захотите.
– Нет, я теперь только понимаю. Ну, вам спасибо, спасибо!
И она, совсем по-детски, потянулась к нему с протянутыми руками и губами.
Роман Иванович обнял худенькие плечи, мягко притянул всю ее ближе, на диван, где сидел сам, поцеловал молчаливым и долгим – первым – поцелуем.
Но тотчас же сам прервал его, отклонился, удержав девушку рядом, на диване.
– Совсем, совсем свободна, – тихо повторял он, близко заглядывая в милые, синие глаза. – Когда только самой захочется… хоть сейчас… бросить меня… и наше общее дело…
– Зачем же… сейчас? – говорила Литта, слабо пытаясь освободиться от руки, охватывающей ее плечи. – Зачем я брошу то, где мы все вместе? Я незнающая, глупенькая, бесполезная. Но я буду другая. Вы меня научите. Вы, и… и сама научусь.
– Да, и сама, – повторил Сменцев, целуя один за другим ее пальчики. – Вы хотите? И я хочу…
– И вы? Что? Постойте… Мне неловко… Постойте. Я сяду лучше сюда.
Он пустил ее, но она осталась на диване, только немного в угол откинулась.
– Хочу, чтобы вы были трезвый, деятельный и… послушный человек. Да, послушный. Вы не знали? Посмотрите мне в глаза. Дело не шутки, в дело как в монастырь идти надо, и как в монастыре – послушание в нем первое. Но зачем говорить об этом? Это есть или нет, есть или нет… Литта! Я хочу, пусть будет.
В теплом свете комнаты, в теплом воздухе пахло персиками и увядающими розами – вчерашний последний букет. Томная мара наплывала, томная, легкая, такая веселая, такая лукавая… Он говорит «хочу»… Пусть будет, как он хочет.
Но вздохнула, точно отгоняя сон.
– Вы верите мне? Милая, да?
Прямо в глаза Литте глядели неблестевшие глаза под выгнутыми, точно нарисованными, бровями. Опять крепкая, властная рука сжимала ее плечи.
Говорил какие-то слова, и нежные и странные. Не хотелось думать, понимать их. Верить ли ему? Да, да. Ведь вот захотел он – и дал ей свободу. Он скажет «хочу» – и все будет хорошо.
Да разве уже не хорошо? Ласково пахнут цветы, ласково льнет к усталому телу фиалковый халат, ласково обнимает ее такая сильная, такая заботливая, надежная рука. Все хорошо.
Среди горячего шепота вдруг различила слова:
– Мало верить мне, надо верить и в меня…
Правда? В него? Как в него? Старый неясный страх точно холодной иглой уколол. Перевела взор, выпрямилась, лицо побледнело.
– Нет, пустите меня. Я не поняла… что значит – в вас поверить? Ах, не надо…