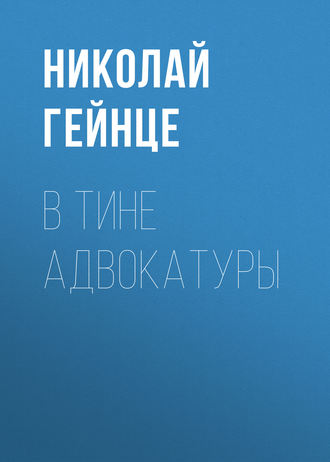 полная версия
полная версияВ тине адвокатуры
– Когда же мы получил эти деньги? – спросила княжна у Гиршфельда в одно из их свиданий на квартирке.
– По миновании законных сроков, – отвечал тот, – но почему тебя это так интересует, разве ты в чем-нибудь отказываешь теперь?
– Нет, благодарю тебя, я занимаю теперь в обществе то место, которого желала достигнуть и которое вполне соответствует как моему рождению, так и образованию, но я думала, что мне на эти деньги можно будет съездить за границу. Ты знаешь, что путешествие – моя давняя мечта.
– Поезжай хоть завтра, денег хватит, – заметил он, – но будет ли благоразумно? Тебе придется ехать одной.
– Как одной? Я хотела бы ехать с тобою; конечно, не вместе, но чтобы там встретиться.
– Ну, этому мешает многое, и первое, что наши дела еще не совсем устроены. Шестовские капиталы хотя и находятся в нашем распоряжении, но, по капризу ее сиятельства, княгиня Зинаида Павловна в большей части их может потребовать каждую минуту от меня отчета. Положим, я ее запутал вместе со мною, но все же главная ответственность ляжет на меня.
– Когда же это наконец кончится? – нетерпеливо перебила она его.
– Надо переждать годика три, четыре, мне, быть может, удастся вытеребить от нее удостоверение о полной сдаче дел и сумм, как ее личных, так и опекунских. После этого она, быть может, догадается умереть, и тогда мы свободны, как воздух, и богаты, как крезы.
– Как это скучно! Ведь она умереть может и не догадаться? – злобно усмехнулась Маргарита Дмитриевна.
– Тогда мы придумаем средство помочь ей совершить это далекое путешествие! – с наглым цинизмом ответил Гиршфельд. – Теперь же мой совет потерпеть. Заграница тот нас не уйдет.
Княжна надулась.
– О, с каким наслаждением увидела бы я эту женщину мертвой! – с нескрываемым раздражением почти крикнула она после некоторой паузы.
– И увидишь, – холодно подтвердил он, – от наших рук не уйдет и она, но, говорю, надо подождать.
– Подождать, так подождать! – согласилась его собеседница.
Княгиня Зинаида Павловна и не представляла себе возможности такого разговора о ней между ее милым «Кока» как она называла Гиршфельда, и ее племянницей, влюбленной без ума, как ее уверил Николая Леопольдович, в Шатова. Он и княжна умели так тонко вести дело, что княгиня и не подозревала их близости. Смерть княжны Лиды не произвела сильного впечатления на Зинаиду Павловну. Стареющая красавица была всецело поглощена своей страстью к Гиршфельду, увеличивающейся с каждым днем, и с утра до вечера занята своей наружностью и туалетом. Все, что не относилось к ее личному я и к нему, казалось ей не стоящим ее внимания.
Таинственность, которая по воле Николая Леопольдовича царила в их отношениях, еще более раздражала ее, придавая им, как о и предсказывал, особую прелесть и пикантность.
Вращаясь и занимая почетное место среди высшего московского общества, спускаясь до благоговеющего перед ней, по крайней мере по ее мнению, среднего, Зинаида Павловна поняла, что более открытые ее отношения к ее поверенному шокировали бы ее, не увеличивая наслаждения, и оценила вполне данный в этом смысле Гиршфельдом еще в Т. совет. Он сделался для нее не только любимым человеком, но и властелином-оракулом. Без его совета, без его согласия она, как мы видели не предпринимала ничего. Так сумел опутать ее этот хитрый человек.
XI
Свадьба Стеши
Время шло своим чередом. Прошел год, не внесший в жизнь наших героев особенных изменений, если не считать смерти отца и матери Гиршфельда, отошедших в вечность друг за другом через небольшой промежуток времени. Смерть эта не произвела на Николая Леопольдовича ни малейшего впечатления. Всегда смотря на своих родителей лишь как на источник дохода, оказывавшийся весьма скудным, но необходимым во дни ранней юности, он, ворочающий теперь десятками тысяч, понятно, не мог жалеть о его прекращении, тем более, что давно бросил им пользоваться. Чувства же сыновней любви он не питал, да и не признавал в принципе.
– Любовь и уважение не могут быть родовыми, а только благоприобретенными! – щеголял он дешевым парадоксом.
Старушка-мать Гиршфельда только на три месяца пережила своего мужа и, потрясенная смертью этого нежно любимого ею человека, сошла в свою очередь в могилу. Последние дни стариков были радостны. Они горячо благодарили Бога, допустившего их на старости лет видеть своего единственного сына на блестящей дороге и вполне обеспеченным. Они, к счастью своему, смежили очи, не догадавшись, какой ценой покупает их сын этот блеск и это обеспечение. Одно открытие этого убило бы их, отравив последние минуты этих «отжившись свой век идеалистов», как с иронией называл их единственный их сын. Это были люди старого закала, называвшие вещи их собственными именами. В их лексиконе слово «преступление» не было еще заменено выражением: «выгодная афера», а слово «мошенник» – словом «делец». В блаженном неведении сошли эти «идеалисты» в могилу и скоро были позабыты сыном-реалистом новой формации. Он устроил для них обоих вполне приличные похороны и успокоился сознанием исполненного сыновьего долга.
Со дня смерти княжны Лиды прошел год. Ко дню годовщины прибыл заказанный в Италии роскошный памятник – великолепно высеченный из белого мрамора молящийся ангел на черном мраморном же постаменте, с надлежащею надписью.
Памятник был поставлен и освящен.
Почасту и подолгу рядом с этой молящейся белой фигурой виднелась около могилы другая черная фигура молящегося монаха. Это молился послушник Карнеев.
В доме Шестовых произошло за это время еще одно незначительное, впрочем, событие. Однажды, окончив утренний туалет своей барыни, знакомая нам горничная княгини Зинаиды Павловны Стеша, сообщила ей, что принуждена оставить свое место, почему и считает долгом предупредить заранее для подыскивания другой горничной.
– Что это значит? Ты чем-нибудь недовольна! – уставилась на нее привыкшая к ней княгиня.
– Помилуйте-с, ваше сиятельство, как недовольна, я много довольна вашим сиятельством. Жила у вас как у Христа за пазухой. Лучшего места по всей, кажись, России не найдешь! – бросилась Стеша целовать у нее руки.
– Так почему же ты уходишь, я не понимаю?
– Я, ваше сиятельство, выхожу замуж, своим хозяйством пожить хочется. Щей горшок, да сам большой.
– Вот как, – улыбнулась княгиня, – это другое дело, поздравляю. Кого же это ты подцепила?
– Ивана Флегонтовича.
Княгиня вопросительно посмотрела на нее: это имя не говорило ей ничего.
– Писарем он служит в здешнем квартале, к нашему дворецкому хаживал – у них мы и познакомились.
– И много получает он жалованья?
– Жалованье небольшое – двадцать рублей, ну, да доходишки, на нас двоих хватит.
– А пойдут дети?
– Бог и на них пошлет.
Стеша врала. Почти за пятилетнюю службу у княгини она сумела скопить себе небольшой капиталец и была не бесприданница, что, независимо от того, что Иван Флегонтович Сироткин (такова была фамилия жениха Стеши) был влюблен, послужило одним из мотивов сделанного им предложения.
– Молодой? – спросила княгиня.
– Двадцать два года.
– Моложе тебя!
Стеша потупилась.
– Он из благородных! – переменила она щекотливую тему разговора. – У него отец в Сибири в чиновниках служит.
– Ну, что же, дай Бог, я тебя не оставлю, награжу, я твоей службой довольна.
Стеша бросилась целовать ее руки.
В роскошной главной квартире помощника присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда только что окончился прием. Сам хозяин переменил сюртук на фрак и собирался ехать в суд.
– К вам там пришла горничная от княгини Шестовой, – доложил вошедший лакей.
– Ко мне? – удивился Гиршфельд, так как горничная в княжеском доме не служила для посылок.
– Точно так-с. Она в передней дожидается.
– Как зовут?
– Степанндой.
Он поморщился, однако сам вышел в переднюю.
– Здравствуй, Стеша.
– Здравствуйте, Николай Леопольдович. Я к вам-с.
– От княгини? Что случилось?
– Нет я от себя.
– Ты уже давно ко мне от себя не ходила! – пошутил Николай Леопольдович.
Стеша потупилась.
– Дельце есть! – произнесла она.
– Секрет?
– Секрет.
– Пойдем в кабинет. Никого не принимать, – обратился он к лакею, – я сейчас еду.
– Слушаю-с.
Затворив плотно за собою тяжелые двери кабинета, Николай Леопольдович усадил Стешу в кресло.
– Ну, говори в чем дело, цыпочка! – хотел было взять он ее за подбородок.
Она быстро отстранилась. Он так и остался с протянутой рукой.
– Я выхожу замуж, – ответила она.
– Вот как! То-то ты с некоторых пор стала такая недотрога. Ну, что ж, с Богом, благословляю и разрешаю. За кого?
Стеша объяснила.
– Что же, в посаженные, или в шафера пришла приглашать? – улыбнулся он.
– Никак нет-с, только объявить пришла, потому что слишком два года вам верой и правдой служила…
– А, контрибуция, понимаю! – перебил ее Гиршфельд и вынув из кармана связку ключей, подошел к вделанному в стене кабинета железному шкафу и отпер его.
Вынув из него толстую пачку радужных, он отсчитал пять штук. Стеша быстро исподлобья сочла количество отсчитанных бумажек. По ее лицу мелькнула презрительная усмешка.
– Вот тебе на приданое. Больше не могу. Чем богат, тем и рад! – подал он ей деньги.
– Очень вам благодарна, – ответила та и сунула деньги в карман и вышла.
Следом за ней вышел в переднюю Гиршфельд, оделся и уехал.
– Жид пархатый! – ворчала, между тем, спускаясь по черной лестнице, Стеша. – Княгиню может не на одну сотню тысяч обобрал, а мне всего пятьсот рублей отсчитал. Расщедрился, нечего сказать. Попомню я тебе это, жидюга проклятый.
Роман Стеши продолжался уже около года. Более полугода, как настоящий жених ее сделал ей предложение, но объявление о свадьбе отложено до получения согласия его родителей из далекой Сибири. Наконец согласие это было получено, и Стеша, как мы видели, сообщила о своем предстоящем браке княгине и Гиршфельду. Свадьба была назначена через месяц. Княгиня наградила Стешу истинно по-княжески. Она подарила ей три тысячи рублей, заказала полное роскошное приданое и, кроме того, выдала пятьсот рублей на свадьбу, которая была блестящим образом сыграна в княжеском доме, за счет княгини. Последняя и один сановный московский старичок были у Стеши посажеными матерью и отцом. На свадьбе присутствовали княжна Маргарита Дмитриевна, Шагов и Гиршфельд. Николай Леопольдович подарил невесте серьги и брошку, осыпанную бриллиантами, хотя, надо сказать правду, не дорогими, но этот подарок не примирил ее с ним, и она продолжала внутренне негодовать на него за слишком малую, по ее мнению, оценку ее услуг. Молодые переехали на особую квартиру. У княгини, после нескольких, быстро сменившихся горничных, появилась востроносенькая, вертлявая блондинка Лиза. Зинаида Павловна сравнительно была ею довольна.
XII
Отъезд
Двухлетний срок, назначенный княжной Маргаритой Дмитриевной Шатову для отдыха после болезни, истекал. Практика его шла превосходно. Имя его стали упоминать в числе московских медицинских знаменитостей. Он был любимым ассистентом знаменитого московского врача-оригинала, «лучшего диагноста в мире», как называли этого профессора университета его поклонники.
Об этом патроне Шатова ходили по Москве невероятные рассказы. В одном доме он приказал разобрать капитальную стену для доставления больному надлежащего количества воздуха. В другом он приказывал зимой выставлять рамы. Следующий случай из медицинской практики этого московского светила очень характерен и рисует его гениальную сообразительность. Жена одного очень богатого представителя серого московского купечества, начала страдать странными головными болями. Она по утрам была почти не в силах подняться с постели и лишь к вечеру боли немного стихали, чтобы утром повториться с еще большею силою. Все средства, как домашние, так еще и по сие время практикующих в Замоскворечьи знахарей и знахарок, были испробованы, но ничто не помогало. Обратились к докторам. Больную осмотрели чуть ли не все московские знаменитые и не знаменитые врачи. Прописаны и приняты были всевозможные лекарства, но безуспешно. Доктора положительно отказались определить болезнь. Муж больной созвал наконец большой консилиум, на который был приглашен и знаменитый диагност. Посланный пригласить его врач рассказал ему историю и симптомы болезни и тот обещал быть. Консилиум был назначен вечером. Врачи собрались и стали ждать. Прошло несколько часов, а знаменитый врач не приезжал. Подождали еще несколько времени и решили начать консилиум без него. Осмотрели больную, начали толковать и разъехались почти около полуночи. В купеческом доме все заснули крепким сном. Вдруг, в четыре часа ночи, в передней раздался сильный властный звонок. Оказалось, что приехала знаменитость и приказала разбудить хозяина. Заспанный «сам» вышел в наскоро освещенную залу.
– Где больная? – резко спросил доктор.
– В спальне, спит! – с недоумением смотря на «шального», по его мнению, дохтура, отвечал купец.
– Ведите меня к ней! – приказал прибывший.
Его привели в спальню. Больная сладко спала на пуховиках. Знаменитость мельком посмотрела на нее и внимательным взглядом окинула спальню. Это была большая комната, в углу которой стоял огромный киот, уставленный образами в драгоценных окладах. Перед ним горело семь лампад.
– Уберите лампадки из спальни навсегда! – обратился врач к стоявшему сзади него мужу больной.
Тот смотрел на него во все глаза.
– Слышите! – крикнул он.
– Слышу-с! – отвечал перепуганный купец.
Врач вышел из спальни, получил за визит и уехал. Купец передал на другой день бывшим на консилиуме докторам странное приказание. Те посоветовали исполнить. Больная выздоровела.
За визит этот московский чудодей не брал меньше ста рублей, о чем он всегда объявлял заранее.
С товарищами-врачами он обращался деспотически. Только, кажется, одного Шатова он любил насколько мог искренно и ценил к нем знание, трудолюбие и способности.
Отъезд Антона Михайловича был назначен. Он стал делать прощальные визиты и заехал в Донской монастырь к Карнееву. Он за последнее время редко бывал у него. Несмотря на то, что при их свиданиях как и при посещениях Карнеевым Шатова во время болезни, разговор ни одним словом не касался грустного прошлого, похороненного в могиле княжны Лиды и близкой от нее кельи послушника Ивана, Антону Михайловичу тяжелы были свидания с ушедшим из мира другом. Живым упреком совести восставала перед ним его мрачная фигура в монашеском костюме. Воззрения и взгляды этих людей разошлись в диаметрально противоположные стороны: один похоронил все в этой жизни, другой ожидал от нее еще многого. Один любил и был счастлив в прошедшем, другой любил в настоящем и надеялся быть счастливым в близком будущем. Шатов застал Ивана Павловича за какими-то математическими выкладками. Он и в монастыре не покидал, по благословению отца-игумена, своих научных занятий.
Встреча двух друзей после большого перерыва была сдержана. Шатов объявил, что приехал проститься.
– Куда едешь? – спросил Иван Павлович.
– За границу, брат, доучиваться.
– Доброе дело, доброе дело! Надолго?
– Года на два, на три, не больше.
Оба замолчали. Беседа видимо не клеилась. Шатов стал прощаться. Иван Павлович обнял его и отвернулся, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы.
По уходе Антона Михайловича, Карнеев опустился на колени перед образами в теплой молитве о своем друге. Он молился о том, да избавит его Он, Всемогущий, от тлетворного влияния губящей его женщины. Да исторгнет из сердца его роковую страсть. Да просветит Он его ум там, вдали, в разлуке с нею. Он не знал, что самая поездка Шатова за границу – дело тлетворного влияния этой женщины, то есть княжны Маргариты Дмитриевны, что лишь подчиняясь всецело ее сильной воле, уезжал из России Антон Михайлович.
С Константином Николаевичем Вознесенским Шатов простился задушевно по-дружески. Вознесенский знал, по рассказам Карнеева, полный злоключений роман Антона Михайловича и относился с состраданием к этому бесхарактерному, слабому, но все-таки прекрасному человеку.
– До свидания, желаю вам всего, всего хорошего, а главное здоровья и успеха в ваших научных занятиях! – крепко пожал он на прощанье руку Шатова.
Последний вечер в Москве перед отъездом провел Антон Михайлович с Маргаритой Дмитриевной. Они сидели вдвоем в гостиной.
– Счастливец, через несколько дней ты будешь за границей! – сказала она.
Он горько улыбнулся.
– Ты, кажется, недоволен?
– Чем же мне быть довольным? Разлукой с тобой – это было бы странным.
– А видеть новые страны, новых людей, лицом к лицу встретиться с учеными двигателями науки, слушать их и поучаться у них самих, черпать, так сказать, премудрость из первых источников. Этого разве мало?! Значит ты не любишь твоей науки! – с пафосом заговорила она.
– Кажется в этом-то меня упрекнуть нельзя. Я доказал эту мою любовь. Слишком, даже чересчур много жертв принес я и приношу во имя этой науки… – ответил он.
Лицо его омрачилось. Она замолчала.
Странные отношения установились между этими двумя людьми. С того памятного вечера, когда княжна Маргарита умышленно, в присутствии покойной сестры, сказала Шатову «ты» – это «ты» так и осталось при их беседах с глазу на глаз. Это было не «ты» двух друзей, не «ты» двух любовников, так как таковыми, в узком смысле этого слова, они не были. Это было обычное, а с ее стороны даже вынужденное «ты». Антон Михайлович дорожил им, видя в нем залог их будущей близости, для Маргариты же Дмитриевны оно было сначала странным, потом она к нему привыкла, но ей оно не говорило ничего. Нельзя было бы сказать, что она не любила Шатова, но это была какая-то любовь прошлого – жила же она страстью настоящего. Она не хотела пока совсем отказаться от него, но не хотела и совсем брать его. Быть может, впрочем, что, подчиняясь во всем Гиршфельду, она находила наслаждение в подчинении себе другого.
– Допустим, что разлука со мной тяжела тебе, но ведь мы растаемся не навеки: три года промелькнут быстро. Ты, наконец, едешь туда для меня, даже для нас! – первая прервала она молчание.
Он просиял и взял ее за руку.
– Да, да, ты права, моя дорогая, это с моей стороны одно малодушие. Я просто не в силах совладать с собой. Прости меня, не сердись.
– Я и не сержусь.
– Ты будешь писать ко мне, часто?
– Конечно. Может даже соскучусь, да и прикачу к тебе туда, как снег на голову.
Он положительно захлебнулся от восторга и покрыл ее руку горячими поцелуями. Она не отнимала руки и глядела на него своими загадочными глазами. Они были бесстрастны, они не говорили ничего, они не отражали состояния души их не менее загадочной владелицы. Часы на камине гостиной пробили час. Шатов простился, крепко пожав и поцеловав руку княжны и уехал.
На другой день он отправился в путь. К отходу поезда на вокзал приехала его проводить Маргарита Дмитриевна. Это внимание совершенно успокоило все еще расстроенного Антона Михайловича.
Раздался второй звонок. Он, простившись с княжной, уселся в вагон с радужными мечтами о будущем. Яркими, веселыми красками рисовало оно ему возвращение в Россию, обладание любимой женщиной, тихую, беспечальную, счастливую жизнь.
Прямо с вокзала Маргарита Дмитриевна отправилась в известный нам переулок на Пречистенке, в квартиру, где ждал ее Гиршфельд.
– Проводила своего соколика? – с нескрываемой иронией встретил он ее.
Она пристально поглядела на него, но не ответила ни слова. Он заметил произведенное его шуткой впечатление и переменил тон.
– Однако, довольно о пустяках, поговорим о деле.
– Это будет лучше!
Они уселись.
– Двести тысяч, оставшиеся после смерти сестры твоей, мною получены. Они заключаются в билетах государственного банка.
– Это хорошо, мне надо, я и позабыла сказать тебе, сделать перевод в Париж Ворту шести тысяч рублей.
– Хорошо, это можно! – поморщился он. Она этого не заметила.
– Я хотела переговорить с тобой о том, что держать эти деньги в казенных бумагах, по моему мнению, крайне невыгодно. При настоящем настроении биржи, при настоящем развитии молодого в России частного банкового дела, акции этих банков, а также железных дорог представляют из себя лучшие бумаги, особенно для помещения небольших капиталов. Хранить в наше время деньги в малопроцентных государственных бумагах – абсурд.
– То же, разменяй и помести, как найдешь лучше. Я в этом ничего не понимаю. Тебе знать лучше.
– Я не считаю себя вправе действовать без твоего согласия. Я попрошу даже тебя выразить его письменно.
– Это еще зачем?
– А затем, что я, как помощник присяжного поверенного, нахожусь под контролем. Я обязан ежегодно представлять в совет ответ, к которому должен прилагать и оправдательные документы. Вот почему я и все выдачи тебе делаю под расписки – они мне нужны для отчетности.
– Хорошо, я тебе выдам письменное согласие. Какой может быть тут вопрос. Мы с тобой слишком близки, составляем, по твоим словам, одно лицо. Какие же тут отчеты?
– Близость близостью, а дело делом. Для всех других и для нашей корпорации – я только твой адвокат, обязанный тебе аккуратной отчетностью.
– Понимаю, понимаю! – нетерпеливо сказала она.
– Значит, я распоряжусь по своему усмотрению. Квитанцию перевода в Париж привезу тебе завтра. Теперь же бросим дела, они мне и так надоели, дай мне отдохнуть около тебя душой.
Он привлек ее к себе.
XIII
Комедиант
Месяца через два после отъезда за границу Шатова, с которым княжна Маргарита Дмитриевна была в частой переписке, по Москве разнеслась роковая весть о крахе Ссудно-коммерческого банка, помещавшегося на Никольской улице. Всюду слышались рассказы о ловком гешефте железнодорожного короля, еврея Беттеля Струсберга, сумевшего выудить из злополучного банка семь миллионов, перемешанные с оханьем и аханьем несчастных вкладчиков и акционеров. Банк прекратил платежи. Его акции перестали котироваться на бирже, упав до стоимости веса бумаги. Между так или иначе причастными к этому легкомысленному учреждению наступила паника. Зеркальные двери банка, все еще осаждаемые тщетно надеющиеся получить обратно свои, часто трудовые, гроши толпой, были запечатаны. Дела банка перешли в ведение судебного следователя и прокурорского надзора или, по выражению защитника одного из подсудимых по этому делу и из директоров банка еврея Ландау – присяжного поверенного Куперника, «кончилось дело банка, началось банковое дело».
Одни адвокаты потирали руки, в предвкушении лакомых кусков – гонорара, имеющего быть полученным с «излюбленных граждан» Москвы, долженствующих скоро волею судеб переместиться с различных мягких кресел почетных должностей на жестокую скамью подсудимых. Кому придется урвать кусочек от этого роскошного пирога? Вот вопрос!
Каждый из «прелюбодеев мысли» рассчитывал и надеялся.
«Авось и я поживлюсь!» – думал всякий из них порознь, потирая руки.
Думал и Николай Леопольдович, но не попав еще в выдающиеся знаменитости, как человек рассудительный, не рассчитывал быть избранным в число защитников.
«Удовольствуемся ролью поверенного нескольких гражданских истцов. Все-таки громкий процесс. Можно выдвинуться, конечно, с помощью печати. Надо взять за бока Петухова – пусть трубит», – соображал он с довольной улыбкой, сидя у камина в своем кабинете.
Дело было под вечер.
Вдруг он ударил себя ладонью по лбу.
– Это мысль! – произнес он вслух и сильно дернул сонетку.
– Лошадей и одеваться скорей! – отдал он приказание выбежавшему лакею.
Не прошло и четверти часа, как он уже мчался по направлению к Пречистенке и сидя в санях сильно жестикулировал и все что-то бормотал. Удивленный кучер даже несколько раз обернулся и подозрительно посмотрел на разговаривающего с самим собою барина. Он видел его в таком состоянии в первый раз. Выскочив из саней у подъезда дома, где жили Шестовы, он сильно дернул за звонок в половину княгини. – Дома? – спросил он отворившего ему лакея.
– Сейчас только откушать изволили, в гостиной.
– Одна?
– Одна-с, – с удивлением посмотрел лакей на встревоженного Гиршфельда.
Быстро направился Николай Леопольдович в гостиную и буквально вбежал в нее.
– Ты! – радостно поднялась с дивана ему навстречу, княгиня, но, заметив его расстроенный вид, остановилась.
– Что с тобой?
– Я погиб! – не сказал, а простонал он и, поцеловав крепко ее руку, тяжело опустился в кресло.
– Что случилось, говори, не мучь! – ветревоженно начала она.
– Говорю тебе – я погиб! – снова простонал он и закрыл лицо рукам.
– Да что такое? Объясни толком, ради Бога! – умоляла она, силясь отнять руки от лица рыдающего Гиршфельда.









