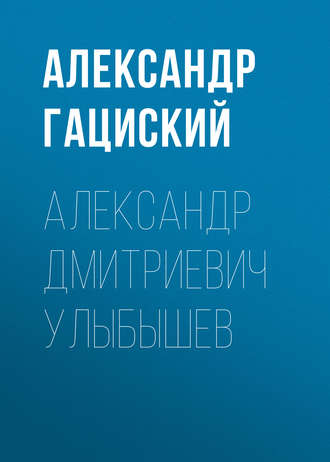 полная версия
полная версияАлександр Дмитриевич Улыбышев

Александр Гациский
Александр Дмитриевич Улыбышев
1794-1858
Летом 1860 года остановился я у витрин какого-то книжного магазина в Берлине и, между другими книгами, увидал, как теперь помню, в зеленой обложке, сочинения Александра Дмитриевича Улыбышева о Моцарте, на Немецком языке…. Книга эта напомнила мне многое из моего детства, как, бывало, я, ребенком, нервно трясся от наплыва впечатлений в Нижегородском театре; там между прочим обращал на себя мое внимание пожилой, румяный толстяк, с седыми редкими баками и клочком таких же волос под подбородком, в золотым очках, большею частью в летних светлых панталонах и в серой на вате, с бобровым воротником, шинели. Толстяк этот – Александр Дмитриевич Улыбышев – всегда сидел в первом ряду кресел, на первом с правой стороны от входа. Свои суждения о пьесах, об игре актеров он произносил не стесняясь, громко, на весь театр, не только в антрактах, но и во время хода пьесы, покрикивая: «браво, отлично, молодец!» или; «скверно», а иногда даже просто: «экой болван!»…. Театральная публика, как и всякая масса, всегда обзаводящаяся своими богами и божками, ее направляющими и ей внушающими, посматривала только на Александра Дмитриевича: молчал он, и она молчала, одобрял он – и она отбивала изо всех сил свои ладони; вертелся он от досады, и она осмеливалась иногда из-под тишка шикнуть (тогда шикать было опасно; с начальством неразберешься)…
Вообще Улыбышев в старом Нижегородском театре (на углу Большой и Малой Печерок) был тем же что для актеров и публики Московского театра был князь Юсупов, который (по словам А. Е. Шушерина, записанным С. Т. Аксаковым), сидя также всегда в первом ряду кресел, магически действовал на актеров, следивших за ним со сцены.
Улыбышев известен был не только за умного, но и за очень остроумного человека. Остроты его беспрестанно ходили по Нижнему, и как всегда бывает – без разбору. Самые незначительные замечания его пересказывались на все лады, и хотя бы в них даже ничего не было замечательного, рассказчики и слушатели считали своей непременной обязанностью изумляться их остроумию. Так, помню, между прочим, передавалось из уст в уста, что увидав меня в первый раз в студенческом мундире, Александр Дмитриевич заметил: «Из эдакой маленькой флейты (лет 13-ти я играл на флейте) вдруг сделался такой большой фагот».
Не стеснялся Александр Дмитриевич и в столичных театрах, публика которых не раз подхватывала театральные суждения его; он клал свой определяющие решения на таланты. Так рассказывают, что одна, считавшаяся чуть не совершенством певица большего театра в Петербурге, обладавшая прекрасным развитием нижних и верхних нот, несколько упала в мнении Петербургской публики, когда Улыбышев нашел, что, в виду несовершенств её средних нот, она «имеет слишком много для того, чтобы иметь достаточно». Этот афоризм по отношению к певице (мне не могли передать её Фамилии) с тех пор вошел в общее употребление в среде публики большего театра…. рассказывают также, что, встретившись в фойе большего театра с какой-то дамой, он заговорил с ней о театре и, по своему обыкновению, безь всяких церемоний, и только потом узнал, что говорил с лицом, очень высоко поставленным…. Передают, что во время представления в Петербурге оперы «Северная Звезда», которую Улыбышев видел в первый раз и в которой под одним из главных действующих лиц разумелся Петр Великий в самом карикатурном виде, он до того громко и резко порицал такое циническое неуважением памяти великого гения страны, что с тех пор «Северная Звезда» стала даваться все реже и реже и затем вовсе снята была с Петербургской оперной сцены.
Открытая барская жизнь Улыбышева в Нижнем осмысливалась его музыкальными вечерами; вообще важнейшее значение всей деятельности его заключалось в его музыкальности, которою он сделался известным не только (или вернее: не столько) в России, как за-границей.
Официально записанная жизнь Улыбышева говорит о нем, по обыкновению, самым лаконическим тоном. Из аттестата, выданного «действительному статскому советнику Александру Дмитриеву сыну Улыбышеву, по определению государственной коллегии иностранных дел в С.-Петербурге, Декабря 17 дня 1830 года» (обязательно сообщенного мне зятем его уважаемым К. И. Садоковым, которому я крайне обязан за сообщение ценных сведений для настоящего биографического очерка) видно следующее: Улыбышев поступил на службу в канцелярию министра финансов 20 Августа 1812 года; по увольнении оттуда определен в канцелярию горных и соляных дел 31 Августа 1813 года, пожалован в коллежские регистраторы 20 Декабря того же 1813 года; по прошению уволен из канцелярии департамента горных и соляных дел 29 Февраля 1816 года и определен в коллегию иностранных цель 29 Апреля того же 1816 года; 1 января 1817 г. произведен в переводчики; 1 Июля того же года пожалован в титулярные советники; 20 Октября того же года отправлен в Москву для нахождения при канцелярии управляющего министерством иностранных дел; 1 Января 1820 г. пожалован в коллежские асессоры; 22 Августа 1821 года – кавалером ордена Св. – Владимира 4 степени; 21 Апреля 1823 года – ордена Св. Анны 2 степени; 1 Января 1824 г. произведен в чин надворного советника; 28 Марта 1825 года – в чин коллежского советника; 22 Августа 1826 года пожалованы ему алмазные знаки Св. Анны 2 степени; 5 Декабря 1827 года ему пожаловано единовременно в награждение 3000 рублей; 25 Марта 1828 года произведен в статские советники; 9 Октября 1829 года пожалован ему годовой оклад жалованья, состоящий из 3000 рублей; 5 Апреля 1830 всемилостивейше пожалован ему перстень с вензелевым Высочайшим именем. Находясь в отпуску, прислал в Сентябре 1830 года прошение об увольнении его в отставку, уволен 22 Ноября от службы, причем, за оказанное им, в продолжение её, отличное усердие, пожалован в действительные статские советники…. Вот и все. Но большего конечно от официальной биографической записи и требовать нельзя.
С 1830 г. Улыбышев более не, служил, так что последние почти 30 л. жизни не принимал прямого участия в служебно-общественной деятельности, если не считать участия его-в собраниях Нижегородского дворянства и в совещаниях дворян по крестьянскому преобразованию. Нужно однако при этом прибавить, что вслед за трагической кончиной А. С. Грибоедова, Улыбышеву предлагали занять его должность в Персии, но он не принял предложения.
А. Д. Улыбышев родился, как это видно из надписи на его памятнике в с. Лукине, 2 Апреля 1794 года, от Дмитрия Васильевича и Юлии Васильевны Улыбышевых [1]. О месте рождения его я не мог собрать сведений. До 16 лет он воспитывался за-границей, а именно в Германии, что, по всей вероятности, и имело влияние на философский образ его мышления, на любовь к музыке, и притом так-называемой серьезной, классической, и вообще на то, что Улыбышев смотрел всегда «Европейцем», конечно с некоторой примесью родного отечественного барства.
По возвращении из заграницы он выдержал экзамен для получения права на первый чин, вместе с братом, своим Владимиром Дигатриевичем, который был впоследствии профессором в корпусе путей сообщения и членом комитета по устройству Исакиевского собора. По поведу этого экзамена рассказывают следующий анекдот: в числе экзаменаторов был известный Зябловский, который до того «пробирал» юнцов, что большая часть их совсем раскисла. А. Д., на-оборот, стал злиться, и на вопрос Зябловского: «скажите, какие животные водятся в России», с азартом отвечал: «лошади, коровы, бараны, козы, ослы, професс…..ах, извините, г. профессор!»….
Во время своей служебной деятельности с 1812 по 1830 г. Улыбышев заведывал редакцией «Journal de S-t. Pétersbourg», был вообще редактором при коллегии иностранных дел, занимался переводами с Французского языка на Русский и с Русского на Французский (на последний он перевел одно сочинение по интересовавшему тогда правительство вопросу о военных поселениях), составил по поручению правительства описание коронации императора Николая Павловича (за что именно и получил алмазные знаки ордена Св. Анны 2 степени), но главным образом, как и в течение всей своей жизни, посвящал досуги свои занятиям музыкою и частью литературою [2].
На службе Улыбышев приобрел знакомство с графами Канкриным, Сперанским, Блудовым, о которых всегда отзывался с большим уважением, также как и о графе Нессельроде, своем прямом начальнике, расположением которого он всегда пользовался.
В отставку он вышел вследствие кончины своего отца и с тех пор поселился в родовом своем Нижегородском имении Лукине (ему достались Нижегородские имения его отца, брату его – Саратовские), занялся устройством своих дел и довел их до того, что к концу жизни, когда перешло к нему, по смерти его брата, и Саратовское имение, получал до 50,000 рублей ежегодного дохода.
Женившись на Варваре Александровне Олсуфьевой, Улыбышев прожил в с. Лукине почти безвыездно около десяти лет, отлучаясь лишь иногда в город, на ярмарку, на дворянские выборы и для своих музыкальных работ, о чем сказано будет ниже.
Энергически занимаясь в Лукине хозяйством, он не покидал главной «злобы» своей жизни: задумал и написал здесь свое сочинение о Моцарте, которое вышло из печати в Москве, в 1843 г. в трех частях на французском языке под заглавием: «Nouvelle biographie de Mozart suivie d'un aperèu sur l'histoire générale de la musique et de l'analyse des principales oeuvres de Mozart», par Alexandre Oulibicheff, memore honöradre de la société philharmonique de S-t. Pétersbonrg.
Для лучшей обработки своих взглядов на музыку Моцарта А. Д. приезжал в Нижний, устраивал оркестровое выполнение Моцартовских пьес и часто видался с покойным Шереметевым, также большим любителем музыки и тонким знатоком и ценителем её [3]. Там, где А. Д. не находил ответа о музыке Моцарта у известных авторов о ней, он разрешал задачу сам, логичностью своего мышления и, по отзыву музыкального критика г. Фетиса, разрешал блестящим образом. Труд его пользуется и до сих пор большим почетом в музыкальной литературе [4]; написанный на Французском языке, он был вскоре переведен почти на все Европейские языки, Немецкий, Шведский и другие кроме Русского, на который начал-было его переводить Сеньковский, но почему то остановился. Мотивом выбора Французского языка для этого труда было, с одной стороны, то, что Французский язык он знал в совершенстве, и в ту эпоху своей жизни даже лучше Русского (который он отлично изучил лишь в последствии) а с другой то, что такая книга, написанная на Французском языке, ближе достигала своей цели, при слабом развитии у нас музыкальной литературы не только в 30-тых годах, но и теперь [5].
Улыбышев рассказывал, что отец его говаривал: ему «Что ты ничего не напишешь? Следует тебе написать какую-нибудь книгу». Впечатлительность натуры А. Д-ча развивала этот завет до того, что ему по ночам грезился отец его с напоминанием: «Исполни, Александр, завет мой!» Написав своего «Моцарта», А. Д. считал таким образом свой «священный долг» исполненным. В этом-то, в нравственном удовлетворении, какое дает всякая, сознательно и добросовестно исполненная работа, и полагал А. Д. все выгоды от своего сочинения, о судьбе которого он сам впервые узнал только лет пять спустя по выходе книги, когда она сделала свое дело в среде компетентной публики и когда он стал получать со всех сторон, от лично ему вовсе незнакомых композиторов, самые сочувственные письма, поздравлявшие его с успехом… В России эти три книги написанные прекрасным слогом, до сих пор продаются в Петербурге в музыкальном магазине Бернара [6]. Другим крупным сочинением А. Д. по музыке было сочинение его о Бетговене, написанное им через 13 лет после первого, также ни Французском языке Beethoven, ses critiques et ses dlossateurs, Leipzig, 1858. Это сочинение, на-оборот, не имело успеха, или, вернее, имело успех совершенно отрицательный. В нем А. Д. пошел в разрез с зарождавшимися взглядами на Бетговенскую музыку. Он доказывал, что у Бетговена есть места, противные всяким понятиям о музыкальной гармонии, и вооружался против тех музыкальных критиков, которые утверждали, что если мы теперь не понимаем многих Бетговенских диссонансов, то только потому, что наше ухо еще не доросло, еще не доразвилось до их понимания, что Бетговенская музыка «музыка будущаго», как говорят теперь о Вагнёровской музыке. А. Д. настаивал на том, что многие сочинения Бетговена писаны были им в тот период его жизни, когда он уже плохо слышал, или даже совсем оглох; а как для того, чтобы судить о плавности и звучности устной речи мало видеть буквы и слова, нужно прочитать их вслух, так мало видеть изображения нот на линейках, нужно их услыхать воспроизведенными не одним умом, но и ухом, еще настоятельнее, чем относительно голосового воспроизведения букв. Улыбышев увлекался даже до того, что называл Бетговена, за некоторые места его произведений, просто сумасшедшим (конечно в музыкальном отношении).
Сочинение свое о Бетговене он писал недолго, и вообще не так любовно к нему относился, как к сочинению о Моцарте [7].
Кроме названных крупных сочинений он оставил множество мелких музыкальных заметок, печатавшихся большею частию в «Journal de St.-Pétersbourg» в Петербургский период его жизни, и в «Северной Пчеле» – в Нижегородский. Темой для первых были концерты и оперная музыка в Петербурге, для вторых – концерты в Нижнем.
Если на долю музыкальных сочинений Улыбышева выпала известность, то не так счастливы были его чисто-литературные произведения, конечно потому, что они не дошли, а частью и не могли дойти, до типографского станка.
Литературные сочинения его делятся на две категории: драматические (драмы, комедии, сатиры и шутки в драматической форме) и дневник, утрата которого особенно прискорбна, На первые свои опыты в драматической форме он смотрел очень легко и серьезно занимался ими только со стороны практики в Русском языке. Драматические произведения его всегда имели жизненно-обличительно-бытовую подкладку, казня глупость, взяточничество и другие дурные стороны современного общества; действующими лицами у него являлись более или менее сильные мира Нижегородского сороковых и пятидесятых годов. Привыкши с детства к Европейским порядкам, провели много лет жизни в избраннейшем светском обществе Петербурга, которое конечно стояло в двадцатых и тридцатых годах несравненно выше тогдашнего провинциального общества, Улыбышев никогда не мог помириться с окружавшей его в Нижнем средой, которую и «пробирал» в своих драматических произведениях.
Не печатал А. Д. своих драматических сочинений частью потому, что не придавал им серьезного значения. Исключение в этом отношении составляла последняя его драма, которую он писал с большею любовью и в которой выводил на сцену раскол. С расколом А. Д. впервые внимательно познакомился по сочинению покойного Надеждина, которое ему дал прочитать живший в Нижнем В. И. Даль. Целью своей драмы А. Д. ставил распространение в публике сведений о расколе и очень желал видеть ее в печати. Большинство его драматических пьес и сцен, подходивших, как тогда выражались, к «натуральной школе» (в некоторых из них женские лица выражались без особой церемонии), выходило однако за пределы его кабинета, так как некоторые (комедии) игрались на его домашних спектаклях, собиравших к себе чуть не весь город, разумея конечно под «городом» так-называемый «бомонд», кроме высшего представителя его, тогдашнего Нижегородского военного губернатора князя М. А. Урусова, к которому А. Д. был в открытой оппозиции, в товариществе с другим Нижегородским магнатом С. В. Шереметевым (братом меломана) и с которым он примирился только при отъезде его на пост Витебского губернатора.
Особенно ценен для нас был-бы конечно дневник Улыбышева, тем более, что он сам говаривал, что дневник его – самая искренняя исповедь его о всем виденном им в жизни, а видел он много. Охотно читал все свои литературные сочинения знакомым, он однако никогда никому не читал даже выдержек из своего дневника….
Все рукописи его и библиотека его (кроме нотной, доставшейся М. А. Балакиреву, вместе с двумя скрипками), по завещанию его, поступили к сестре его Екатерине Дмитриевне Пановой и по разным обстоятельствам утратились. Держится темный слух, что дневник и теперь цел; мне, по крайней мере, указывали даже на лицо, через руки которого мог выдти дневник Улыбышева из его кабинета, по смерти его; но лицо это в настоящее время померло… Отыщется-ли когда-нибудь это последнее и любимейшее произведение его, над которым он работал до самых последних минут своей жизни, мудрено решить.
Важным биографическим материалом всегда является описание обычного среднего дня человека. Каков же был день Улыбышева? День этот, во второй период его жизни, был двух родов; деревенский и городской.
В деревне, в Лукине, в своем деревянном доме [8], где А, Д. прожил, как сказано, почти безвыездно десять лет, с 1831 по 1841 год, и где затем проводил он каждое лето до конца своей жизни [9], средний день его проходил следующим образом.
Вставал он в 7 часов утра и выходил пить чай в зал, где наполняла чашки жившая в доме экономка и первая учительница его дочерей «барская барыня» Анна Ивановна. Являлся бурмистр или староста, а иногда и оба вместе, для докладов и выслушания приказаний и распоряжений.
В девятом часу он удалялся к себе в кабинет и садился за письменный стол, часов до 12-ты. В полдень он выходил к семейству (которое чрезвычайно любил) и тут говорил преимущественно один, владея прекрасным даром слова и способностью расскащика. После того у себя в кабинете играл сольфеджии или пьесы любимейших своих композиторов на скрипке (он был и прекрасный исполнитель).
Перед обедом А. Д. выходил на прогулку, не смотря ни на какую погоду, «ни сверху, ни снизу», как в деревне, так и в городе, с тою только разницей, что в деревне с прогулкой соединялось и хозяйственное обозрение. Ходил он так скоро, что спутники его, если бывали, возвращались домой еле-еле таща ноги.
За деревенским обедом, часу в 4-м, раздавался также главным образом голос одного Александра Дмитриевича, который оживлялся при наезде каких-нибудь знакомых.
После обеда он удалялся в другой, маленький кабинетик, подле зала, полежать и покурить «Жукова» из трубки; к нему в это время аккуратно каждый день должна была являться старушка-нянька, большая мастерица рассказывать сказки. Она знала одну нескончаемую сказку, представляя собою таким образом в некотором роде вторую Шехерезаду.
– Ну-ка, на-чем-бишь, Николавна, мы вчера остановились? спросит, бывало, Александр Дмитриевич.
И Николавна продолжала прерванный накануне рассказ, под который А., Д. начинал дремать, но минут через пять просыпался и проговоря каждый раз одну и туже фразу: «Ну, Николанна, теперь прощай, до завтра», уходил в кабинет, где уже спал положительно с час или полтора. После сна он выходил не надолго в сад, пока закладывали лошадей в деревенские дроги, для вторичного хозяйственного обозрения и прогулки. При любви его к обществу для семейных его было почти обязательно сопровождать его в этой послеобеденной прогулке, при чем все семейство играло роль также балласта, так как дроги отчаянно трясли, а нагруженные как следует, были попокойнее. Иногда на этой прогулке Александр Дмитриевич пел, обладая очень симпатичным голосом, и всю домашнюю публику заставлял подтягивать себе хором.
После этой поездки он снова гулял в саду (вечером он чаю никогда не пил), возвратившись читал часов до 12-ты; ужинал, всегда один, отдельно от семейства, и ложился спать.
В городе день конечно несколько видоизменялся. За утренним чаем место бурмистра и старосты занимала уже всегда Анна Ивановна, большая начетчица, как в духовной, так и в светской литературе, с которой А. Д. любил поговорить, поспорить; особенно любил он с ней вступать в состязание по религиозным вопросам, имея в ней конечно представительницу самых консервативных начал. В разговоре с Анной Ивановной А. Д. любил также перебирать весь прошедший день, анализируя, так-сказать, мелочи его до мелочей. Всласть наговорившись за утренним чаем, он, также как в деревне, часу в 9-ом, отправлялся в свой рабочий кабинет.
В приеме утренних визитов своего барского дома А. Д. вообще не участвовал, предоставляя это своему семейству; но к особенно уважаемым гостям мужского пола он иногда выходил во всем своем «параде», в который он «нарочно» облекался: в синем халате, или в еще более торжественных случаях – в халате из дорогой Турецкой материи.
Перед обедом А. Д. также аккуратно каждый день, также не смотря ни на какую погоду, шел гулять. Любя видеть за столом гостей, А. Д. звал к себе обедать встречавшихся ему на прогулке знакомых, если не имел уже кого-нибудь в виду к обеду. Прогулки его были так аккуратны, что в городе заменяли многим часы; А. Д. вышел на Покровку – значит второй час [10]. Обед в городе в 4 часа, проходил шумно и весело: обставившись бутылками так, что иногда его из-за них почти было невидно, Александр Дмитриевичь был, как говорится «душею общества» и усердно потчивал своих гостей [11].
По вечерам, в театральные дни (по Воскресеньям, Вторникам, Средам и Пятницам), А. Д. всегда бывал в театре. По Вторникам – не-абонентный, бенефисный день того времени – А. Д. всегда платил двойную, тройную плату за свое кресло и литерную ложу семейства. Для особенно любимых им актеров плата эта увеличивалась иногда и в десятеро. В не-театральные дни происходили у него обыкновенные квартетные собрания (по Четвергам и Субботам), или большие музыкальные вечера, на которых принимали всегда участие, кроме самого А. Д. (первая скрипка), покойные М. М. Аверкиев, или С. П. Званцов (альт), М. П. Званцов, Гебель или Вилков (виолончель), К. К. Эйзерих (фортепиано) или нарочно приглашенные на зимний сезон артисты из Москвы. К. К. Эйзериха часто заменял тогда уже развертывавший свой талант воспитанник Нижегородского Александровского Дворянского Института М. А. Балакирев; иногда фортепьянную партию исполняла Е. М. Панова, дочь тогдашнего Нижегородского вице-губернатора, также хорошая пианистка. На чрезвычайных музыкальных собраниях исполнялись большие партии в роде Stabat Mater, Requiem (Русский текст для Requiem'а написан К. И. Садоковым).
Дом А. Д. был открыт не только для всех музыкальных знаменитостей, которые попадали в Нижний, но вообще для артистов, художников, писателей. Так не миновали этого дома покойный Щепкин, Мартынов и друг. Долго жил у него и получивший впоследствие известность композитор и музыкальный критик А. Н. Серов, когда он только что окончил курс в Училище Правоведения. На музыкальную деятельность Серова вероятно имел влияние Улыбышев, но впоследствии Серов разошелся с музыкальными воззрениями его [12]. Начало охлаждения Улыбышева к Серову было однако вовсе немузыкального свойства и относилось к Нижегородской деятельности Серова, как чиновника. Серов недурно рисовал, и до сих пор сохранился в семействе Улыбышевым нарисованный им вид Земского съезда со стороны Нижегородского кремля.
Иногда чрезвычайные музыкальные собрания в доме А. Д. заменялись домашними спектаклнаии. И те и другие привлекали к себе «весь город». Понятно, что многих и многих звало туда не одно художественное влечение, но более практическое желание хорошенько вкусить от завершавших каждое собрание обильных явств.
В клубе (тогда был в Нижнем всего один клуб – дворянский, или, как он тогда назывался – благородное дворянское собрание) А. Д. никогда не бывал. В карты он вовсе не умел играть и садился за карточный стол только изредка, в деревне, в глубокие ненастные осенние вечера, при чем случалось нередко, что с одной дамой червей объявлял 8 в червях. На балах в дворянском собрании (6 Декабря, или во время дворянских выборов) Улыбышев появлялся иногда, но допускал в своей бальной одежде некоторый компромисс: облекаясь во фрак, он сопровождал его какими-нибудь серенькими клетчатыми панталонами из легкой летней материи.
Но как бы правильно, аккуратно и осмысленно ни текла жизнь, настает время, когда гармония в ней нарушается. Разнообразные работы А. Д. за письменным столом заменились одним дневником его, в котором, по его словам, он находил все свое облегчение. Затем подоспели невзгоды по каменному дому на Малой Покровке: рассчитывая умереть в нем, А. Д. должен был перейти в наемную квартиру (г. Чиркова, на Ошарской улице). Едва он привык к своему новому помещению, стали одолевать телесные недуги. Вернувшись из одного бурного заседания Нижегородского дворянства перед эпохой образования губернских комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян [13], Александр Дмитриевич окончательно слег в постель, и после мучительных страданий скончался 29 Января 1858 года.
Года два спустя прекратился род Улыбышева в мужской линии, в лице единственного его сына Николая, который, одно время, по воле отца, был отдан из студентов Казанского университета в военную службу на Кавказ, где и дослужился до первого офицерского чина. Этот случай был одним из тяжелых в жизни А. Д., горячо любившего своего сына и вообще крайне мягкого и добросердечного.


