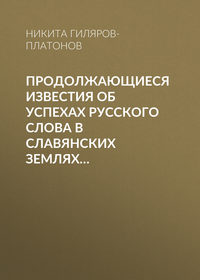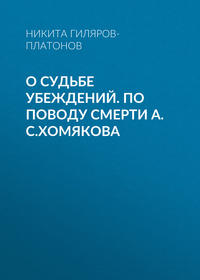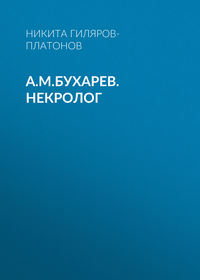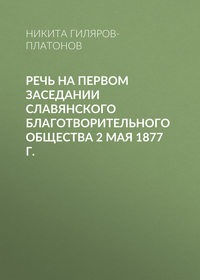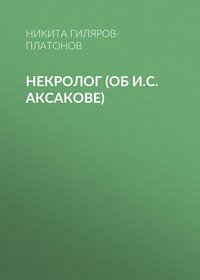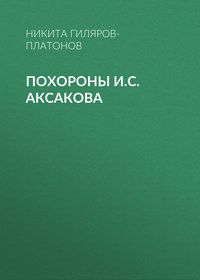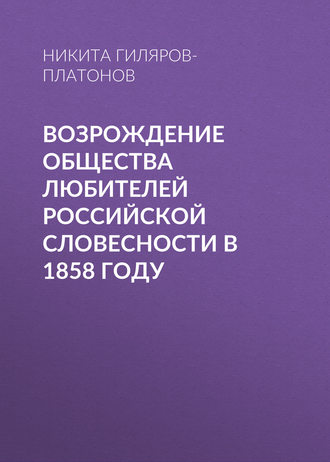 полная версия
полная версияВозрождение Общества любителей российской словесности в 1858 году
Затем пошли своим чередом собрания, как и теперь, частные и публичные. Первым председателем был Хомяков, секретарем Лонгинов. На собраниях, особенно публичных, подобно мертвецам, восставшим из могил, появлялись старики, которых имя из литературы уже исчезло, а то и такие, при виде которых поднимался вопрос: «Да что же они писали?» Меня этот вопрос занимал, но из деликатности я не допытывался. Ученая деятельность Кубарева мне была известна; но старец Зиновьев, но Антон Францович Томашевский, сам по себе милый человек впрочем, но Николай Васильевич Путята – чем они ознаменовали себя в российской словесности? А Николай Васильевич был даже выбран во временные председатели.
В перечислении собравшихся на первоначальное заседание не значится ни Сергея Тимофеевича Аксакова, ни Константина Сергеевича. Но первый, состоявший почетным членом Общества, по болезни никуда не выезжал из дома. А второй был bete noire [черный зверь (фр.)] для высших сфер, и выставлять его сразу напоказ найдено было неудобным, несмотря на то что он был душою возрождения. Да и после, по самом открытии Общества, я что-то не помню его чтецом. Хотя читал он несомненно, но добродушие его не настаивало, даже не предлагало к прочтению некоторых стихотворений его, остававшихся в рукописи. Все ли они попали даже в полное издание его сочинений? Помню слышанное мною от него стихотворение, оканчивавшееся словами:
Им ярки золотые главы,Им оглушителен твой звон.Дело шло о Москве и петербургских правящих сферах. Старик Сергей Тимофеевич, единственный свидетель, присутствовавший при этом чтении, сказал мне серьезно: «Я посоветовал ему уничтожить рукопись, когда он прочел мне эти стихи. Ну, да ведь пойдите, – прибавил он смеясь, – он их помнит наизусть». И старик махнул рукой с улыбкой, которая говорила: «неисправимый!». Попало ли это стихотворение в собрание сочинений и записано ли оно?
В первые времена по пробуждении Общества выбор членов был очень строг и задачу оно поняло свою в той строгости, которая предначертана была предварительными тайными совещаниями, когда будущие члены собирались своего рода заговорщиками. Я говорю о Хомякове и Аксакове. Общество любителей российской словесности должно стремиться к тому, такова была мысль, чтобы образовать из себя в Москве общественную академию в параллель Петербургской казенной. Предмет ее – язык и словесность, но последняя не в том ограниченном смысле, как понималось пятьдесят лет назад. Общество должно следить за успехами литературы, служить для нее зеркалом, отчасти руководством. Критические обозрения – беспристрастные, стоящие выше партий, – должны быть постоянным чтением на публичных собраниях. Язык и его история должны быть предметом тщательной разработки. И эта академия должна быть не scribens только, пишущая, но legens, читающая; речи в Обществе должны быть наполовину и лекциями. Хомяков, при всей своей лени, послужил с своей стороны добросовестно предначертанной задаче: он давал обзоры современной литературы. А Общество принялось за редакцию русских песен, собранных Киреевским. Душой этого дела был Константин Аксаков. Я был в числе членов комитета, работавшего над сокровищем, которое оставлено Киреевским, и могу засвидетельствовать об усердии и внимательности работ. Для самого Аксакова они были священнодействием. Он возмущался даже, что при обсуждениях – в комитете ли, в собраниях ли Общества – позволяют себе курить. Сам он был из числа курящих; сигара не выходила у него изо рта. Но при обсуждениях находил курение халатностью не только неуместною, но вредною для дела, рассеивающею внимание. Долгие об этом были пререкания, на которых Аксаков уступал только одно – чай, но никак не папиросы или сигары.
Затем Общество на первых же порах впрягло В. И. Даля за составление Словаря из собранного им материала, снабдив его на это чрез Кошелева средствами.
О строгости же выборов могут дать понятие следующие три случая. Предложен был Григорий Ефимович Щуровский, и поставлен был вопрос: профессор геологии, при всех своих несомненных ученых достоинствах, имеет ли право быть членом Общества словесности? Предоставляется ли ему это право тем одним, что его ученые труды напечатаны и представляют вклад в литературу вообще? Вопрос этот решен был в принципе отрицательно, но в собрании было прочитано его описание альпийских ледников, свидетельствовавшее, что Григорий Ефимович не только ученый исследователь, но и художник слова, и он был выбран.
Граф А. С. Уваров был предложен в члены, и выбор его отклонен: иное дело занятия археологиею, иное – заслуги по словесности.
Наконец, забаллотирован был Илья Васильевич Селиванов, автор, стоявший тогда на виду, но избравший себе под заглавием, не помню каким, ‹кажется,› «Провинциальные воспоминания Чудака», специальностью обличительные очерки, – «ябеду, облеченную в литературные формы», – как некто выразился тогда на заседании.
Хомяков вскоре умер. За ним последовал Константин Аксаков. Общество расслабло, прежняя дружность исчезла. Руководители частью не обладали достаточным авторитетом, частью не имели достаточного досуга, а может быть, и любви. Но нельзя не признать высокими задачи, предносившиеся восстановителям Общества, и нельзя нашему Обществу не помянуть добром и Хомякова, и Константина Аксакова, и даже М. Н. Лонгинова.
Сноски
1
Вот, по перечислению Лонгинова, научные труды членов, помещенные в первом собрании изданий Общества. Мерзлякова: «Рассуждение о российской словесности», «Рассуждение о синонимах», «Разбор 8 оды Ломоносова», «О вкусе и его изменениях», «О начале, ходе и успехах словесности», «Рассуждение о драме вообще», «Державин». Его же во втором собрании: «О вернейшем способе разбирать и судить сочинения», «О характере трех греческих трагиков»; Калайдовича: «Синонимы», «О белорусском наречии», «О древнем церковном языке славянском», «О времени перевода нашей Библии»; Болдырева: «Рассуждение о глаголах», «Рассуждение о средствах исправить ошибки в русских глаголах», «Нечто о сравнительной степени»; Каченовского: «О славянском и в особенности о церковном языке», «Исторический взгляд на грамматики славянских наречий»; Снегирева: «Опыт рассуждения о русских пословицах», «О простонародных изображениях»; Давыдова: «Опыт о порядке слов»; Востокова «Рассуждение о славянском языке» напечатано в первом собрании трудов (1816 – 1822).