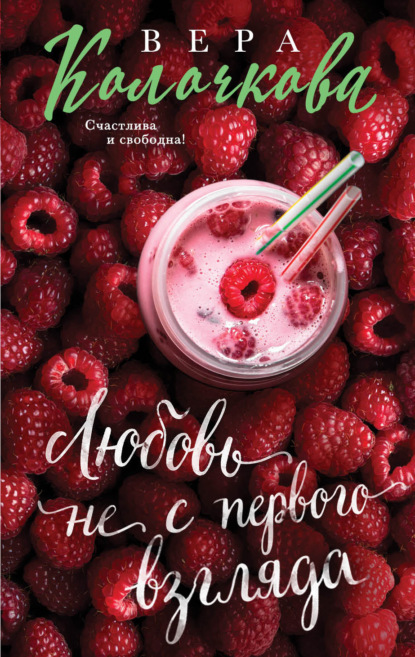Полная версия
Рандеву для трех сестер

Вера Колочкова
Рандеву для трех сестер
© Колочкова В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *День первый
Телефонный звонок прозвучал так, что сердце сразу оборвалось в дурном предчувствии. Вроде бы самой обыкновенной деликатною трелью он прозвучал и не обозначился ничем особенным на фоне ежевечерних квартирных звуков, но в то же время и не вписался в их общий шумно-бытовой ряд. Текла и текла себе в этом ряду обычная ежевечерняя жизнь – нервничал разноголосьем популярной скандальной передачи телевизор в комнате Светланы Ивановны, с шумом лилась вода из кранов в ванной, на кухне взвизгнул на одной ноте и заверещал призывно таймер микроволновки, напоминая хозяевам о размороженных в ее нутре отбивных. И среди всего этого занозистой досадой – звонок. Как всегда, некстати. Такие вот роковые телефонные звонки – они всегда некстати. Потому и кажется, что они звучат не так, как обычно. Бесцеремонно и требовательно они звучат – попробуй не ответь. И еще есть у них одна специфически-нехорошая особенность – раздаваться громом небесным в самый неподходящий момент – когда человек под душ собирается залезть, например, или делом каким неотложным хозяйственным заняться. Такие звонки и несут в себе поворот судьбы. Или его знамение. Или вообще весть о фатальном, свершившемся уже факте – это кому как повезет…
Инга развернулась из коридора на сто восемьдесят градусов, быстро простучала каблуками домашних туфель к журнальному столику с телефоном. Одновременно хватая трубку и падая в подушки кресла, проговорила обреченно-устало:
– Да. Вас слушают…
– Ингуль, это я, Вера… – прозвучал в трубке далекий тревожный голос. – С таким трудом до тебя дозвонилась! Весь день пыталась…
Голос старшей сестры звучал упреком, как будто Инга виновата в том, что ее весь день дома не было. Ну, и в самом деле не было. И не должна она была дома быть…
– Вер, я на работе весь день… А Светлана Ивановна трубку никогда не берет, ты же знаешь. И Анютки дома нет, она со своим детским театром опять на гастроли уехала. Каникулы как раз осенние… А что случилось, Вер?
– Тебе надо срочно приехать сюда, Инга, – грустно проговорила сестра. – Папа вызывает, что-то важное, говорит, сообщить нам хочет. Так что давай, завтра с утра жду. Теперь бы еще до Нади дозвониться…
– Вер, а что сообщить-то? Может, по телефону можно? Ты же знаешь, мне никак нельзя от дома оторваться…
– Я ничего не знаю, Инга. Папа сказал – приехать тебе надо. Так что уж будь добра, исполни. И не вздумай ему сама звонить! А то начнешь про причины свои всякие талдычить, знаю я тебя, – расстроишь только. А он и без того нехорошо себя чувствует. И без твоих причин…
– Что, так все плохо, Вер? Ты ж говорила, он вроде молодцом держится…
– Да, на сегодняшний день молодцом, конечно. Но это ничего не значит. Приезжай, Инга. Тут и поговорим обо всем. Приезжай. Так папа велел. Да, и вот еще что. Он просил передать, чтоб ты пробыть здесь неделю примерно рассчитывала. Сказал, раньше тебе от нас уехать и не удастся.
– Но… Но погоди, как на неделю? Я не могу так срочно взять и уехать! Тем более – на неделю. У меня же Светлана Ивановна… Ей же каждое утро памперс… И поесть… Как я уеду, Вера? Тем более ты говоришь, что с папой все хорошо… Ничего не понимаю!
– Инга, ты что, не слышишь меня? Хорошо, еще раз тебе повторю: так велел папа. Теперь ты поняла меня, надеюсь? – отчеканила в трубку Вера, перебивая Ингин испуганный лепет.
– Да поняла я, поняла! – стараясь подавить обиду и не замечать менторского тона сестры, проговорила Инга. – Сейчас буду сиделку искать! Не могу же я бросить Светлану Ивановну одну!
– Хорошо, значит, утром ты выедешь, к следующему утру здесь уже будешь. Хорошо…
– Вер, я не знаю, когда я буду! Может, билетов на утренний поезд нет. Может, я сиделку не найду так быстро. Да мне еще и на работу надо заехать – заявление написать… Ты бы лучше объяснила мне, что за срочность такая? Да еще и на целую неделю… Зачем на неделю-то? Мне и на один день от дома оторваться нельзя. Ты же понимаешь!
– Господи, Инга… Ну что ты за эгоистка у нас такая? Только о себе и думаешь все время! У других, значит, нет никаких сложностей, у тебя одной только!
– Да, Вер. Таких сложностей действительно ни у кого нет. Знаешь, как трудно сейчас сиделку найти? Да еще и срочно? Да еще и для Светланы Ивановны?
– Не знаю, Инга. В общем, приезжай. Так папа решил. Жду. Всего доброго и до встречи.
Трубка тут же захлебнулась короткими гудками – холодными и нервными, как и весь ее разговор со старшей сестрой. Инга положила ее на рычаг допотопного пластикового аппарата, обхватила себя руками за худые бока, покачалась горестно из стороны в сторону. Она и еще бы так покачалась, баюкая свою усталость и накатившее после звонка отчаяние, да времени у нее на это не было. Некогда впадать в обиду и грусть – надо срочно звонить куда-то, договариваться, умолять, из кожи вон лезть и просить какую-нибудь добрую душу, чтоб побыла несколько дней сиделкой для Светланы Ивановны. И беда была в том, что не существовало, наверное, в природе таких добрых да крепких духом сиделок, которые характер ее драгоценной свекрови выдержали бы да не сбежали в первый же день со слезами и нервной дрожью. Был, был уже у Инги грустный опыт по найму сиделок для Светланы Ивановны. Никто не шел. Мать Тереза – она одна была такая, наверное. А остальные проведут полдня в их квартире – и деру. И никакими пряниками их обратно не заманишь…
Вздохнув, она оторвала от боков руки, безвольно сложила их на коленях, замерла в горестной позе перед старым телефонным аппаратом. Жалость к себе, разорванная по кусочкам и загнанная давно уже в самые потаенные местечки души, вдруг зашевелилась довольно отчетливо, нанесла первый острожный удар – в груди тут же образовалось подозрительное тепло и нехорошая сладко-тягучая призывная влажность. Поплачь, мол, чего ты. Этой жалости поддайся немного – и долго потом себя не соберешь. Будешь сидеть, трястись как в лихорадке да слезы лить – самое бесполезнейшее из всех занятий, которое только можно придумать. Нет, это хорошо, наверное, и полезно даже бывает, чтоб вволю поплакать. Но надо же всему время и место знать! Время, например, ночью, когда все уже спят. А место – одинокая бабья постель да подушка-подружка…
Инга вздохнула еще раз, потом вздернула решительно подбородок, выгнула дугой спину. Сейчас, заплачет она, как же. Не дождетесь… Вспомнив, что оставила воду в ванной беззаботно хлестать из обоих кранов, подскочила легкой пружинкой из кресла и помчалась туда, выстукивая каблуками привычную барабанную дробь. Не любила она мягких домашних тапочек. И халатов плюшево-мягких не любила. Боялась такой одежки. Залезь в нее – и растечешься сразу усталостью да ленью. Слишком уж недоступные это удовольствия в ее теперешней жизни – лениться, усталость чувствовать. Какая такая усталость? Стирки вон гора целая накопилась, и никто за нее эту работу не сделает. Машина-автомат, верно отслужившая свои десять лет, сдохла недавно практически у нее на глазах. Жалко. Вдвойне жалко еще и потому, что новую купить абсолютно не на что. Все деньги будто в прорву какую уходят – то Анькины детские гастроли, совсем для родителей не бесплатные, то лекарства для Светланы Ивановны… Да и на еде особо экономить не приходится – у Светланы Ивановны диабет… А вот и ее голосок уже из комнаты слышится – громкий такой, сердито-повизгивающий, грубо-капризулистый…
– Инга! Ты где, Инга? Ты что, решила меня голодом уморить сегодня? Я есть хочу!
– Сейчас, Светлана Ивановна! – приоткрыв дверь ванной, крикнула Инга. – Сейчас все будет! Я только белье замочу…
– Какое белье, Инга? Ты что, вместо ужина бельем занялась? Ты нарочно это делаешь, да? Прекрасно знаешь, что мне надо питаться строго в определенное время, но делаешь все назло! Все только мне в пику!
– Да в какую там пику, господи… – тихонько проворчала Инга, торопливо вытирая полотенцем руки. – Делать мне больше нечего – о пиках для тебя думать… Все, все, бегу уже, Светлана Ивановна! – беспечно крикнула она в сторону комнаты свекрови. А иначе нельзя. Надо, чтоб именно беспечностью ее голос звучал. Потому как если почует зловредная старушка, что нервничает невестка, – тут же и добить ее попытается обязательно. Ей Ингина нервозность – как запах крови для упыря…
– Что-то не вижу я, чтоб ты побежала куда-то!
– Как не видите? Да вот она я… Через пятнадцать минут уже и ужин будет! Отбивные разморозились, я их быстро зажарю!
– Ничего себе, через пятнадцать минут… – громко проворчала Светлана Ивановна. – За эти пятнадцать минут десять раз с голоду умереть можно…
Через два часа, плюхнувшись в кресло и запрокинув на спинку голову, Инга вздохнула облегченно, закрыла глаза, мысленно погладила себя по голове – молодец, девушка, еще один день прожила, и с ума не сошла, и в отчаяние не провалилась… Вот и Светлана Ивановна затихла в своей комнате, хорошо и калорийно накормленная, и бельем постиранным вся лоджия увешана… Хотя рано себя по голове гладить – пора и о завтрашнем дне подумать. Вот где, где она эту сиделку найдет? Звонить по старым телефонам бесполезно – никто целую неделю обихаживать Светлану Ивановну все равно не согласится. Надо какую-то новенькую жертву искать. Эй, алё, кто там у нас на новенького? Как там дальше? Вжик-вжик – уноси готовенького…
Она чуть было не унеслась в подкравшуюся неожиданно и ни к месту дремоту, но вздрогнула от резких звуков, исходящих из старого телефонного аппарата. Напугал, черт… Давно бы его сменить надо, да руки никак не доходят. Хотя руки, может, и дошли бы, да кошелек им особо разгуляться не дает. На месте держит. И большую фигу показывает.
– Привет, самая несчастная из всех разнесчастных! – услышала Инга в трубке знакомый до боли голос. Слава богу, свои. Слава богу, свои, из тех, из ласково-насмешливых, которые от нее ничего не хотят, которые, наоборот, всегда ей помочь стремятся…
– Привет, Родька. Чего это ты меня вдруг несчастной обозвал? Я вроде давно уже тебе на судьбинушку не плакалась…
– Так вот и я о том же. Пора бы и поплакаться. Как насчет воскресенья? Меня тут на дачу пригласили, шашлыки-машлыки, баня, лист осенний под ногой… Поедешь со мной? Утром – туда. Вечером – обратно. А что? Еды с вечера наготовишь, горкой у свекровкиной кровати складируешь. Анька у тебя, как я понял, по гастролям опять шастает…
– Ой, как ты все вкусно рассказываешь, Родька… – завистливо вздохнула Инга. – Только вся эта вкуснота опять не для меня. У меня проблемы очередные… Слушай, у тебя знакомой сиделки нет на примете?
– Сиделки? Нет, нету… Так мне пока и не требуется вроде… – хохотнул в трубку Родька. – А что случилось, Ин?
– Да я сама не пойму, что случилось. Вера позвонила, говорит, приехать надо срочно. Отец просит.
– Ну, это дело святое. А что он, совсем плох?
– Да типун тебе на язык! В том-то и дело, что нет! Говорит, хорошо себя чувствует. Но все равно просит приехать…
– А может, капризничает просто? Старики, они как дети, знаешь…
– Нет, Родька. Наш отец не их таких. Он лишний раз о себе не напомнит, гордый очень. В общем, ехать мне все равно надо. Аж на неделю целую. Сижу вот, голову ломаю – на кого хозяйство свое капризное оставить. Да и Анька через три дня уже вернется, ее встретить надо…
– Ну, Аньку я твою встречу, ты не волнуйся. А вот с сиделкой как быть?.. Слушай, а твой этот… ну, бывший… Он что, не может? Твоя драгоценная свекровка ему родной матушкой все-таки приходится…
– Ой, да бог с тобой, Родька! Он Аньку-то уже год не видел! Да и бог с ним, не хочу я ему звонить. Да и бесполезно. Знаю я, что он мне скажет. Договор, мол, дороже всего…
– Господи, Инга, ну какой такой договор? Свалил на тебя и дочь, и мать – крутись, как хочешь! Он хоть алименты тебе платит?
– Не-а. Ничего не платит. Это тоже в договор наш входит. Джентльменский. Он же мне квартиру эту отдал? Отдал. А мог бы и не отдавать. Мог бы обмен затеять. До сих пор бы менялись. И кончилось бы все тем, что выпер бы меня с ребенком в какую-нибудь халупу к черту на кулички. А он так отдал…
– Ну да, отдал он… Вместе с мамой своей в нагрузку…
– Ой, ладно, давай не будем начинать эту грустную песню, а? Как сложилось, так сложилось. Терпеть буду.
– Ну, терпи, раз так…
– Родь, ты мне денег взаймы не дашь? А то я последние, считай, на Анькину поездку выложила. Разорение одно с ее этими гастролями. Прям театр Карабаса-Барабаса какой-то. Как гастроли, так поборы с родителей начинаются. А мне совсем не хочется домой ехать с пустыми руками…
– Дам. И не взаймы. Я ж не чужой тебе. Твои проблемы – мои проблемы, окаянная ты моя женщина.
– Ой, так уж и окаянная…
– Ладно, не кокетничай. И денег дам, и с сиделкой помогу, как сумею. Качества не гарантирую, конечно…
– Ой, да какое там качество! Я и самим фактом ее присутствия была бы уже счастлива. А то хоть садись да плачь…
– Ладно. Сейчас обзвоню всех своих знакомых, порешаем вопрос. Погоди, не плачь пока. Жди звонка, несчастная моя женщина!
Трубка тут же выдала ей короткие деловые гудки, за которыми стояла будто веселая Родькина уверенность в положительном исходе проблемы. Хороший мужик – Родька… Родион Угольников. Почти что Раскольников… И почему она его тогда не приметила, в институте еще? Хотя чего уж говорить – она тогда вообще никого не примечала, сквозь дрожащий туман будто на жизнь смотрела. В параллельных группах родного радиофака в Политехническом проучились, а она его и не помнит совсем… Это уж потом, на встрече выпускников, она его разглядела. Да и то после того только, как признался Родька под пьяную лавочку, что с первого курса на нее глаз положил. Все подвалить хотел, да не успел. Очень уж скоропостижно она за своего Толика тогда замуж выскочила. Только познакомились – и сразу в ЗАГС. Каждый по своему расчету. Толик – от жгучей любви с первого взгляда, а она – чтоб прежнюю свою любовь из себя замужеством этим вытравить…
В общем, с этой встречи выпускников два года назад роман их странный с Родионом и завязался. Хотя это слишком громко сказано – роман. И никакой это вовсе не роман, а так, встреча двух одиночеств. Как там у Кикабидзе – развели у дороги костер… Родька к этому времени со своей женой тоже развелся и жил после размена родительской четырехкомнатной квартиры, ему по наследству доставшейся, в убогой однокомнатной хрущевке на окраине города. Правда, надо отдать ему должное, сердце и руку свою он предложил ей сразу, не раздумывая, – бери, мол, пользуйся, если хочешь. Старая любовь, мол, целехонька осталась, ничуть не приржавела… Да только она отказалась. Зачем? Одного мужика уже обманула, хватит. Опыт не удался. И впрямь нельзя без любви вдвоем жить. Раз нет ее, настоящей, чтоб в сердце сидела, то и замуж выходить не стоит. Ей этой истории с Толиком за глаза хватило…
А вот просто встречаться – это пожалуйста! Это ж ни к чему их не обязывает. Эти встречи можно просто как подарок судьбы рассматривать. И Родьке хорошо, и у нее мужское плечо есть. Какое-никакое, а есть. И жилетка для слез тоже. И помощь всякая. И для женского здоровья тоже хорошо. О нем тоже подумать надо – всегда в жизненном хозяйстве пригодится. А вот насчет любви – тут уж извини, Родька. Занято ее сердце, давно и прочно занято. Безнадежно, безысходно… как еще там? Горестно, обидно, навсегда… Что делать – она и сама этому не рада. Как вцепилась в сердце первая любовь, так и не желает отпускать. Сначала детской была, потом девичьей, теперь вот в женскую сама собой трансформировалась. Глупо, конечно. Но что делать – сердцу ведь не прикажешь. Пыталась приказать – ничего из этого не вышло, кроме фарса притворного. Уж как старалась перед Толиком женушку заботливую изобразить, все равно не обманула. Мужики, они притворство это особым нюхом чуют, шестым чувством, третьим глазом…
Инга вздохнула еще раз, кинула тоскливый взгляд на часы – почти одиннадцать. Ну кому он в такую поздноту дозвонится? Все добрые люди спать легли. Самой, что ли, подруг своих побеспокоить? Ленка разохается, конечно, но ничем не поможет – только время с ней зря потеряешь. А Наташка – та наоборот. Та охать не будет, зато пройдется хорошим крепким словцом по всем ее родственникам, и настоящим, и бывшим. И совет даст – никуда не езди, мол. И без тебя разберутся. Раз ты плохая для них – вот пусть и получают плохую дочь и сестру, и будь плохой до конца, и оправдывай ожидания, раз такое дело… Нет, не стоит и Наташке звонить. Душу разбередишь, а толку тоже не будет. Так, кому бы еще позвонить-то…
Мысль свою она так до конца и не успела додумать. Телефон зазвонил снова, потек из трубки в ухо веселым Родькиным голосом:
– Инка, нашел я тебе сиделку! Ну, в смысле, не тебе, свекровке твоей…
– Да ты что?! И кто она? У нее опыт есть? Где живет? Ездить ей далеко? – сыпала Инга деловыми вопросами. – Ты ее предупредил, что потенциальная пациентка очень сложная? Она согласилась?
– Так. Не торопись. Чего затараторила? Давай все сначала начнем – по списку и по пунктам. Какой у нас вопрос первый был? Ты спросила, кто она. Так вот, отвечаю – это моя соседка по лестничной площадке. Вопрос второй – про опыт. Опыта у нее никакого такого нет и отродясь не бывало. Ей просто деньги срочно нужны. Так нужны, что она даже и не спросила про характер потенциальной пациентки, как ты любовно называешь свою свекровушку. И ездить ей далеко, как сама теперь понимаешь. Через весь город. Но она все равно согласилась. Так что бери, что дают…
– Ой, да конечно! Спасибо тебе, родненький Родька! Что б я без тебя делала…
– Ладно, потом рассчитаешься, – хохотнул в трубку Родион. – По приезде.
– Да мне вовек с тобой не рассчитаться… Ты столько для меня всего делаешь хорошего! Неудобно даже.
– Ну, для любимой да окаянной все дела в радость. Все для вас, мадам. И сердце, и рука… Не надумала еще руку мою принять, а? Не появилось ли у тебя такой мысли часом?
– Родь, ну не начинай… Ну чего ты! Опять все испортил… Мы ж договорились!
– Да помню, помню… Договорились, конечно. Другая б рада была…
– Конечно, была бы рада, Родечка! И если вдруг радостная такая около тебя объявится, я сразу в сторонку отойду, ты не думай! Мне и так неловко, что я тебя к своим скорбным делам все время присобачиваю…
– Дура ты, Шатрова. Дура и есть. И всегда дурой была.
– Ага, Родечка, дура…
– Значит, так. Завтра утром я тебе эту соседку-сиделку прямо на дом доставлю. Передашь ей свои скорбные, как ты говоришь, дела. А потом на поезд тебя провожу. Идет?
– А мне еще на работу надо заехать…
– И на работу заедем. Я на машине буду.
– Откуда у тебя машина? Ты ж жене все оставил…
– Сашка Ефимов свою дает. На завтра, до обеда. Так что провожу тебя по-человечески.
– Ой, Родька…
– Да ладно, Ин. Иди в дорогу собирайся. Пока. До завтра.
– Пока…
Положив трубку, она долго еще смотрела на старый аппарат. Сидела с ногами в кресле, покачивалась туда-сюда худым станом. И сама не заметила, как задрожали губы, как глаза заволокло жгучей горячей влагой. Ну почему, почему так несправедливо устраиваются судьбы человеческие? Почему она соломенной вдовой, брошенной женой оказалась в цветущие свои тридцать, почему согласилась жить в таких нечеловеческих условиях, ублажая капризную бывшую свекровь? Почему ей даже в голову не пришло, что после развода можно взять дочь и уехать под отчий кров, к отцу, к сестре Вере? Как так получилось, что выбилась она из семейного своего клана, изгоем там оказалась – не явным, конечно, но все равно изгоем? И почему она не может, черт возьми, взять и полюбить доброго Родьку, бросившего ей под ноги ковром драгоценным и сердце свое, и душу…
* * *– Надя, тебя к телефону! Верочка звонит, у нее там что-то срочное! – крикнул из комнаты Вадим не то чтобы недовольно, а равнодушно как-то.
Надя и не удивилась. Она давно уже к этому равнодушию привыкла. И хорошо. И слава богу. Пусть будет так. Потому что все, что касается ее семьи, его совершенно теперь касаться не должно…
– Да, Верочка! Слушаю! – чуть запыхавшись, проговорила она в трубку. Так и прибежала из кухни – с половником в руках. Стояла, замерев, как солдат с ружьем на посту. Слушала очень напряженно, что ей говорит в трубку сестра Верочка. Деревце межбровной морщинки, недавно у нее образовавшееся, на глазах обросло прожилками-веточками, лицо, обычно розовое и гладкое, побледнело нехорошо, будто дунуло на него ветром из того, будущего, коварно подкрадывающегося женского возраста, когда яркость цветущей молодости сменяется пастельно-блеклыми красками зрелости, всеми силами-резервами организма страстно отвергаемой. Осев на диван, Надя вздохнула горестно, потом всхлипнула испуганно и тихо, шепотом будто, сложив руку вместе с зажатым в ней половником себе на грудь.
– Надь, случилось чего? С отцом, да? – наклонился к ней участливо Вадим.
Она только головой мотнула нетерпеливо, будто отстраняя его от участия в разговоре. И заговорила скорбным голосом:
– Что, Верочка, так и сказал, да? Чтоб мы все собрались? Но как же так? Я же недавно у вас была, и он ничего такого… Он веселый был – шутил, смеялся… Помнишь? Все было, как всегда…
В наступившей тишине слышно было, как Вера снова заговорила в трубку торопливо и взволнованно, как зашипело что-то на кухне, выплеснувшись на раскаленную плиту. Надя дернулась было автоматически на этот звук, но Вадим остановил ее, коснувшись плеча сочувственно, – сиди, я сам, мол…
На кухне он быстро повернул кран под конфоркой, синие язычки пламени фыркнули возмущенно и исчезли, явив глазу расплывшееся по белоснежному телу газовой плиты сбежавшее из кастрюльки и успевшее подгореть молоко. Для него Надя кашу собралась варить, наверное. Овсянку, скорее всего. Заботливая, хорошая жена. Вчера только ей пожаловался на вновь возникший дискомфорт в желудке, и вот вам, получите… Теперь будет кормить кашами да супами протертыми – не поймешь, что и отправляешь в себя, то ли суп, то ли ту же кашу… Еще и рядом сидеть будет, и уговаривать, как малого ребенка, только что по головке не гладить. Совсем она его избаловала сверхзаботой своей. Говорят, повезло ему с женой. Многие завидуют даже. И еще говорят, что он своего счастья не ценит. Нет, он ценит, конечно же, ценит…
Ну не объяснишь же этим, которые говорят да завидуют, что счастье – оно вовсе ни в каком таком комфорте и не нуждается. Оно другое совсем! Оно… такое… хрупкое и звенящее, к нему бежать домой хочется со всех ног, а не сидеть на работе допоздна, тупо уткнувшись в экран компьютера. Оно то самое, для которого самому хочется и кашу сварить, и по головке погладить, и в глазки милые усталые заглянуть…
Вздохнув тяжко, Вадим подошел к кухонному окну, упер руки в поясницу, чуть прогнулся назад. Какие тяжелые кости стали с возрастом – так запросто и не прогнешься. Хотя какой такой возраст для мужика – сорок три года всего? У него вон жена на восемь лет его моложе, должен совсем еще огурцом молодым себя чувствовать. Должен, должен… Все время он чего-то кому-то должен. И благодарным за Надину к нему любовь тоже быть должен. И за ее стремление к стройности-ухоженности – тоже. И за наряды супермодные. За весь, в общем, внешний ее достойный экстерьер. А как же? Это ж для него, любимого, все в муках творится, для него диеты женские мучительные да истязания всякие телесные устраиваются. Чтоб говорили, чтоб завидовали – именно ему, а не кому-нибудь… А он, получается, сволочь неблагодарная. Счастье. Как увидел это счастье тогда, тринадцать лет назад, так покой и потерял. Ну да, тринадцать лет с тех пор прошло… Инге сколько было? Восемнадцать едва исполнилось? Что ж, девчонка совсем. Худенькая, маленькая – совсем на старших сестер непохожая. Он и увидел-то ее впервые тогда – Надя привезла его перед свадьбой к себе в дом, чтоб с родителями познакомить. Друзья провожали – смеялись все, как ловко Надя его, холостого-тридцатилетнего, окрутила. Он и сам тогда думал, что навеки обручен-окручен. Что нашел ту именно женщину, которую искал так долго. И умная, и красивая, и хозяйка умелая-расчудесная, и не кричит, не психует попусту… А потом он сестру ее Ингу увидел…
– Вадик, мне срочно туда ехать нужно!
Он от раздавшегося за спиной Надиного слезного голоса обернулся, виновато подняв плечи и даже голову в них от этой виноватости втянув, будто Надя, незаметно подкравшись, могла каким-то образом подслушать его летуче-преступные мысли. Хотя чего в них такого преступного, если уж честным перед собой быть до конца? Не может в мыслях человеческих ничего преступного быть. В словах, в действиях – да. А мысли – это уж извините. Мысли – это область эфемерная, сугубо личная, интимная. Чего хочу, то внутри себя и мыслю. Вернее – кого хочу…