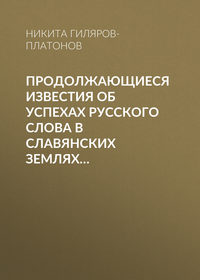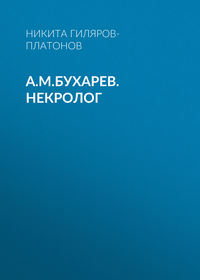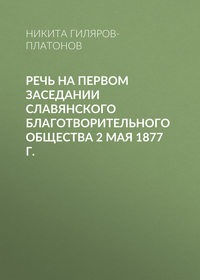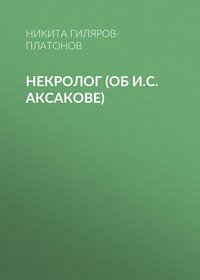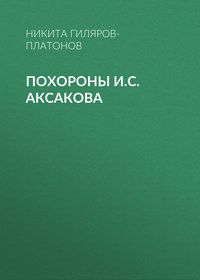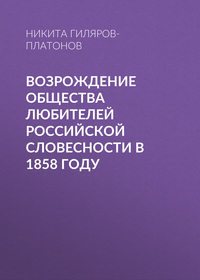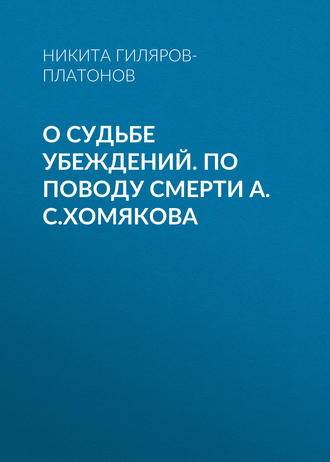 полная версия
полная версияО судьбе убеждений. По поводу смерти А.С.Хомякова
Хомяков не таил от себя и от других, что народы, оставшиеся исторически верными церкви, сами стоят на крайней низкой степени развития. «Я знаю, – писал он, обращаясь к западному миру, – вы можете требовать от нас строгого отчета в плодах, которые должна бы истина принести народам, ее хранящим, в плодах, которых должно бы ожидать от нашей признательности и которые отвергнуты нашей неблагодарностью. Мы не станем оправдываться. Не будем говорить ни о борьбах и страданиях нашей истории, ни о лжи образования, почерпаемого более нежели столетие из источников нечистых. Все это нас не оправдывает. Каковы бы ни были ваши обвинения, допускаем их справедливость; в каких бы пороках вы нас ни упрекали, не отрицаемся: сознаемся в них со смирением, со скорбию, с горечью». Но этим, в глазах Хомякова, нисколько не уменьшалась сила заключения, что блестящее развитие Европы все-таки односторонне, и что полнота развития возможна все-таки только там, где сохранено для него начало. Может быть жизнь, – скажем его словами, – при всех признаках смерти; и может быть смерть при всей кажущейся жизни. Будущее только там, где церковь.
Понятно, что, давая религиозным началам столь важное значение, Хомяков должен был углубляться в них особенно настойчивым вниманием. Действительно, три богословские брошюры его представляют особенную выдержанность и законченность. Основное положение, повторяясь во всех трех, является даже как бы отлитым в стереотипную форму, не допускающую прибавлений или изменений. Понятно, с другой стороны, что верный коренному направлению, Хомяков обратился в этой области не к сухой переборке отвлеченных положений, к чему и без него и до него много сделано уже другими, но старался проникнуть в дух церковной жизни, раскрыть ее внутренний смысл. Чтобы дать понятие не только о ходе мысли, но и о самом способе изложения, решаюсь передать в переводе место из его брошюр, где ставятся начала вопроса и кладется зерно дальнейшему исследованию.
Дело идет о существе различия между тремя главными христианскими обществами.
«Что такое протестантство? – спрашивает наш исследователь. – В том ли его отличительность, что оно протестует в вопросе веры? Но тогда протестантами были бы апостолы и мученики, протестовавшие против заблуждений иудейства и лжи идолопоклонства; все отцы церкви были бы тоже протестанты, ибо они протестовали против ересей; вся церковь постоянно была бы в протестантстве, ибо она постоянно и во все века протестует против заблуждений каждого века. Слово протестант, таким образом, не определяет ничего».
«Состоит ли протестантство в свободном исследовании? Но апостолы свободное исследование дозволяли и одобряли. Но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры, – свидетель в особенности великий Св. Афанасий, в своей героической борьбе против арианства. Но свободное исследование, так или иначе, составляет единственное основание истинной веры. Римское исповедание, по-видимому, осуждает свободное исследование; но когда бы человек, свободно исследовав все авторитеты Писания и разума, пришел к признанию всего учения, – стало ли бы оно смотреть на него как на протестанта? Еще более: когда бы человек, пользуясь свободою исследования, просто-напросто пришел к тому убеждению, что папские определения непогрешительны в деле догмата, и что ему остается не более как покориться им, – осудит ли оно его как протестанта? А не правда ли, между тем, что этот пункт, который для него дороже прочих, будет достигнут свободным исследованием? Наконец, всякое верование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и исходит из предварительного свободного исследования, которому человек подчинит явления ли то мира внешнего и движения времен прошедших или явления своего мира внутреннего и свидетельство своих современников. Смею сказать более. В случаях исключительных, в случаях, когда глас Бога самого приходит взыскать и восставить душу заблудшую или падшую, душа, простирающаяся ниц и поклоняющаяся, начинает тем, что узнает божественный голос: она начинает актом свободного исследования. В этом отношении христианские общества различаются одно от другого единственно тем, что некоторые допускают исследование всех данных, другие же ограничивают их число. Приписывать право исследования одному протестантству значит приписывать ему честь единственной смыслящей веры; но конечно, это не будет нисколько по вкусу его противникам, и все мыслители, сколько-нибудь серьезные, отклонят такое предположение».
«Есть ли протестантство – реформа, чем оно надеялось быть с первоначала? Но церковь постоянно реформировала свои обряды и свои чиноположения, и из-за этого никому не приходила мысль назвать ее протестантскою».
«Итак, протестантство есть не просто реформа, но сомнение в существующем догмате, то есть отрицание преданного догмата, или живого предания, одним словом – церкви».
«Мир протестантский не есть мир свободного исследования – оно принадлежит всем людям, но – мир, который свободным исследованием отрицает другой мир. Отнимите у него мир им отрицаемый, – он умер, ибо он только и жив своим отрицанием. Состав учения, соблюдаемого им еще, – труд, выработанный произволом нескольких ученых и принятый апатическим легковерием нескольких миллионов невежд, продолжает существовать, благодаря только необходимости противостоять нападениям со стороны римского исповедания. Как скоро эта необходимость перестает чувствоваться, протестантство тотчас рассыпается на индивидуальные мнения без общей связи. И будто такова цель церкви вполне положительной? Вся ее забота относительно других исповеданий, в продолжении 18-ти веков, не возбуждается ли единственно желанием, дабы все люди обратились к истине?»
«Должно заметить, что протестантский мир разделяется на две части, далеко не равные по числу своих последователей и по своей важности, – части, которых не следует смешивать. У одной есть свое логическое предание, хотя она и отрицает предание более древнее. Другая довольствуется преданием нелогическим. Первая слагается из квакеров, анабаптистов и других сект. Другая состоит из прочих сект, называемых реформатскими. У этих двух половин протестантства один общий пункт: это точка отправления – отрицание предания, существующего в продолжение многих веков. Далее они расходятся в своих принципах. Первая, – связующаяся с христианством, впрочем, только весьма слабою нитью, – допускает новое откровение, прямое вмешательство Божественного Духа, и отправляясь с этого пункта думает образовать одну Церковь или многие Церкви, с принимаемым без сомнений преданием и с постоянным вдохновением. Данная может быть ложною; но ее приложение и ее развитие рациональны: предание получает логическое бытие. В другой половине реформатов – иначе. Она принимает предание на деле и отрицает его право. Пример объяснит это противоречие. В 1847 г., плывя на пароходе по Рейну, я вступил в разговор с одним почтенным пастором, человеком образованным и серьезным. Разговор мало-помалу перешел на предметы религиозные и, в частности, на вопрос о догматическом предании, которого законность пастор отвергал. Я спросил у него, к какому исповеданию он принадлежит. Он был лютеранин. На каких основаниях он предпочитает Лютера Кальвину? Он предложил мне весьма ученые доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подносил ему стакан лимонаду. Я просил пастора сказать мне, какому исповеданию принадлежит его слуга? Тот был также лютеранин. Почему он предпочитает Лютера Кальвину? – Пастор остался без ответа и показал недовольный вид. Я уверил его, что не имею в мыслях ни малейшего желания его оскорбить, но думал только показать ему бытие предания в протестантстве. Смутясь несколько, но тем не менее дружелюбно пастор сказал мне, что он надеется – невежество, условливающее эту видимость предания, рассеется перед светом науки. – „А люди с слабыми способностями? – спросил я его, – а большая часть женщин, а рабочий, которому время едва достает для добывания насущного хлеба, а дети, а незрелые юноши, чье суждение о вопросах столь ученых, каковы разделяют мир реформатов, не выше детского суждения?“ – Пастор замолчал и после нескольких минут размышления сказал: „Да, да, тут есть кой что (es ist doch etwas darin); я об этом подумаю“. – Мы расстались. Не знаю, думает ли он еще до сих пор, но знаю верно, что факт предания у реформатов несомненно существует, хотя они и отрицают всеми силами его начало и законность; и они не могут ни поступить иначе, ни выйти из этого неизбежного противоречия. В самом деле, когда неизвестные общества, допуская божественное вдохновение для всех своих учений и для своих основателей, с которыми связаны непрерывною нитью, допускают, в то же время, скрытно или прямо, предание: это рационально как нельзя более. Но какое право имеют на это те, кто опирает свое верование на научном знании своих предшественников? Справедливо или ложно верить, будто Римский двор получает себе вдохновение с неба, будто Фокс или Иоанн Лейденский были верными органами Божественного Духа: их решения остаются тем не менее обязательными для тех, кто верует их призванию. Но верить непогрешимости научного знания и знания противоречащего, это – невозможность в глазах здравого смысла. Следовательно, все реформаторские ученые, отвергающие предание, как постоянное откровение, обязаны смотреть на всех своих братии, менее ученых, чем они сами, как на лишенных вовсе действительного верования. Чтобы быть последовательными, они должны сказать им: „Братья и друзья, у вас нет законной религии, и она у вас будет только тогда, как сделаетесь вы богословами вроде нас. А покамест обойдитесь без нее!“ Не знаю, бывала ли такая речь, но знаю, что это было бы делом чистосердечия. Очевидно, что большая половина протестантского мира довольствуется преданием, незаконным в собственных глазах; а другая половина, более логическая, столько удалилась от христианства, что нечего на ней останавливаться. Итак, основным характером реформы должно быть признано отсутствие законного предания. Что отсюда следует? То, что протестантство не расширило прав свободного исследования, но только уменьшило число несомненных данных, которые подвергает свободному исследованию своих верующих (оставляя только Писание); точно так же как Рим уменьшил это число для большей части мирян тем, что отнимает у них Священное Писание».
«Достоверно, что положение протестантов как церкви несостоятельно, и что, отвергая законное Предание, они не могут осудить человека, когда бы он, признавая божественность Св. Писания, не дошел до открытия в нем опровержения ересей Ария или Нестория; ибо такой человек был бы виновен только в глазах науки, а не в глазах веры. Но я не имею здесь намерения нападать на реформатов. Для меня важно показать, что они поставлены в необходимость принять свое теперешнее положение, доведены до этого логически, тогда как такого рода необходимость и этого рода логика в церкви невозможны».
«Со времени основания своего апостолами церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь известный мир, связывавшее Британские острова и Испанию с Египтом и Сириею, не было нарушаемо. Когда восставала ересь, христианский мир посылал своих представителей, своих высших сановников на эти священно важные собрания, называемые соборами, собрания, которые несмотря на беспорядки и иногда даже насилие, затмевавшие их чистоту, представляют своим мирным характером и возвышенностью вопросов, подлежавших решению, благороднейшее из всех зрелищ в истории человечества. Церковь всецело принимала или отвергала определения этих собраний, смотря по тому, находила ли их сообразными или противными своей вере и своему преданию, и называла вселенскими те из соборов, которые признавала выражением своей внутренней мысли. Временный авторитет в вопросах дисциплины, – они становились неопровержимым и непоколебимым свидетельством в вопросах веры. Они были голос церкви. Ереси не нарушали этого Божественного единства: они были заблуждениями личными, а не расколами провинций или епархий. Таков был порядок церковной жизни, внутренний смысл которого, много веков уже, забыт совершенно на всем западе».
«Предположим, какой-нибудь путешественник, в конце VIII или в начале IX века приходит с Востока в один из городов Франции или Италии. Полный мыслию об этом древнем единстве, полагая себя среди братьев, он входит в храм, дабы освятить седьмой день недели. Полный собранности и любви, он присутствует при богослужении. Он слышит эти высокие молитвы, наполнявшие его сердце радостью с самого раннего детства. Он слышит слова: „Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Св. Духа“. Он слушает. А вот в церкви возглашается символ веры христианской и кафолической, – символ, для которого каждый христианин должен жить и за который должен уметь умирать! Он слушает… – это символ измененный, символ неизвестный. Наяву или во сне он это слышит? Он не верит своим ушам, сомневается в своих чувствах. Он осведомляется, просит пояснений. Он полагает, что зашел на собрание сектантов, отвергнутых местного церковию… Увы, нет! Он слышит голос самой местной церкви. Весь патриархат, и наиболее обширный, целый мир произвел раскол… Удрученный печалью, путешественник жалуется: его утешают. – „Мы прибавили самую малость“, – говорят ему, как не перестают это повторять нам латины до сих пор. – „Если малость, зачем же вы прибавили?“ – „Это вопрос совершенно отвлеченный“. – „Почему же знаете вы, что вы его поняли?..“ – „Но это наше местное предание“. – „Как оно могло найти место во вселенском символе, вопреки формальному определению вселенского собора, воспретившего всякое изменение символа?“ – „Но это предание общее, и мы выразили его смысл по местному мнению“. – Мы не знаем этого предания; да и во всяком случае, каким образом местное мнение может найти место во всеобщем символе? Познание Божественных истин разве уже не есть дар, ниспосланный всеобщности церкви? Чем заслужили мы такое исключение? Не только не подумали вы с нами посоветоваться, но даже не приняли на себя труда уведомить нас. Ужели мы так глубоко пали? И однако едва ли век прошел, как Восток произвел величайшего из христианских поэтов и, может быть, блистательнейшего из богословов, Дамаскина? И мы считаем еще среди себя исповедников, мучеников веры, ученых, философов, полных знанием христианства, подвижников, чья жизнь вся есть молитва. За что вы нас отвергли?» Но, сколько бы ни говорил бедный путешественник, раскол был сделан. Мир Римский совершил действие, в котором подразумевалось объявление, что мир Восточный есть не более как мир илотов в вере и учении. Церковная жизнь кончилась для половины церкви.
В дальнейшем исследовании автор указал, что протестантство есть только продолжение того отрицания, того превозношения частного перед общим, которое явилось в римском отпадении, или, точнее сказать, было вторым моментом, логическим последствием первого отрицания. Превозношение частного перед совокупным должно было вести, в силу принятого начала, равное превозношение личного перед частным внутри сферы самого частного, а тем вместе и объявить, следовательно, внутреннюю, скрытую ложь того и другого. Впрочем, я не намерен вдаваться в подробные объяснения этих мыслей. В дополнение характеристики прибавлю только немногие слова, которыми сам автор заключительно высказал сущность своего воззрения. «Три великие голоса, – говорит он в конце последней из своих брошюр, – слышатся в Европе:
– Повинуйтесь и веруйте моим декретам, – говорит голос Рима.
– Будьте свободны и постарайтесь составить себе какое-нибудь воззрение, – говорит голос протестантства.
А голос церкви говорит своим детям: возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца, Сына и Святаго Духа».
Но возвращаясь к мысли, с которой начал свое слово, я позволю себе спросить: что, в воззрении, с которым мы познакомились, слышна ли только недалекая посредственность, не заслуживающая даже упоминаний? Нужно быть слишком высокоумным или до крайности малоумным, чтобы решиться на такой отзыв. Или касается оно интересов столь далеких, что внимание невольно отвлекается другими, более близкими? Но интерес религиозный собственно никогда не может быть далеким. Он есть первый всегда и для всякого, даже для того, кто решился бы сказать о себе, что он не имеет никакой религии. То самое, что он не признает никакой религии, было бы его религиею. Это было бы своего рода исповеданием, которое, хотя выраженное отрицательно, сохраняло бы все-таки за собою значение основного начала для жизни и, по самому существу своему, не могло и не должно быть ничем иным. Но тем менее можно упрекнуть в далекости интерес, возбуждаемый тою религиозною стихиею, среди которой мы живем, которая составляет несомненную основу нашего прошлого, и которая если не для всех продолжает быть такою же основою в настоящем, то, по крайней мере, ни для кого не составляет чего-либо прямо и сознательно отринутого. Но, может быть, воззрение об этой стихии выражено слишком стереотипно, все это сто тысяч раз слышано, и внимание притупилось? Но в том-то и дело, что с этой точки, различие между тремя главными вероисповеданиями печатно высказано именно в первый раз. Сделаем еще предположение. Не идет ли высказанное воззрение против господствующего у нас, не скажу – общего образа мыслей, – его нет никакого, – но хотя против моды на известные фразы, с которыми так любят носиться все имеющие притязание на образованность? Но если самое популярное слово последнего времени, что, конечно, вне всякого сомнения, есть слово «прогресс», и если с прогрессом желают соединять понятия свободы и разумности, – что равно несомненно, – то чего бы, казалось, лучше, даже для поверхностного образования, даже для этого призрачного мышления, как не воззрение, в котором свободе исследования дается право едва ли не обширнейшее, чем какое бывало уступлено ей каким бы то ни было положительным учением? Но может быть, наконец, именно это самое и было виною воззрения: учение о необходимости авторитетов, может быть, у нас еще так сильно, потребность в них так обща? Но провозглашаемое начало любви тем-то и дорого, что оно одинаково признает как свободу независимости, так и свободу в избрании авторитета, что свобода поставляется им не в бесконечности личного права, но само личное право, напротив, утверждается им в своей свободе именно чрез бесконечное признание права всех других, взятых вместе; что ему противно, следовательно, всякое принуждение, всякое насилие, идет ли оно с одного конца или с другого; что всякое право, а следовательно и право свободы, само в себе определяется им прежде всего как обязанность. Таков, по крайней мере, логический ход мысли. Припоминаю, что подобное мнение высказано было прямо Хомяковым в письме к сербам. Не помню точных слов, но смысл именно тот: «Для полного гражданского счастия нужно, чтоб каждый думал прежде о своих обязанностях, чем о правах, и самое право сознавал как обязанность».
Итак, по-видимому, были все данные, чтобы печатно заявленное воззрение встретило если не сочувствие, то, по крайней мере, разумный спор или повело хотя к живому обмену мыслей. Но сочувствие… его выказал едва ли не один какой-то итальянец, который, по появлении брошюр, откликнулся на них в Москву с своей далекой родины, и, может быть, еще несколько других, столь же мало известных. Разумный спор поднят был, но собственно в Германии, каким-то немцем Капфом, после перевода брошюр на немецкий язык. Обмена же мыслей, с обыкновенными при сем взаимными пояснениями, уступками и т. п., вовсе не последовало даже в той сфере, которая, по-видимому, специально на то призвана. В нашей литературе, правда, подымался по временам спор, но, впрочем, против целой школы, к которой принадлежал Хомяков, и собственно против социальных иль исторических частностей ее воззрения. С видом большего или меньшого небрежения стыдили, например, школу заимствованием понятий о русской общине у Гакстгаузена, странно не доглядывая при этом, что сам Гакстгаузен, наоборот, некоторым лицам этой школы, и между прочим Хомякову, обязан своими сведениями о русской общине. Или, с большим или меньшим сознанием бесконечного превосходства, говариваемо было о неразумном стремлении воротить Россию на полтораста лет назад, как будто когда, где и кем это было высказано, хотя одним словом! Собственное же воззрение Хомякова и коренная сущность его воззрения, убеждения философские и религиозные игнорировались совершенно, и разве изредка встречали презрительное указание на византийство, – как будто словом этим что-нибудь сказывается!
«Однако это недобросовестно», – скажут, может быть, некоторые. Я не скажу и этого, – и не потому только, что всякая укоризна была бы недостойна настоящего печального воспоминания. Нет, но мне кажется, вообще говорить о добросовестности можно только там, где вопрос о совести поставлен. А где нет и этого, там странно укорять за недобросовестность, – столь же странно, как гневаться на мир глухих за несоблюдение мелодии. В факте, который мы указали и который есть один из тысячи других, повторяющихся при другой обстановке, совсем в других приложениях, я нахожу простое физиологическое отправление нашего общественного организма; это – естественное последствие всего характера нашего образования. Прибавлю к этому, что здесь виден след его происхождения. Там, где образование есть всенародно чувствуемая потребность, где разработка в мысленной сфере является как ответ на вопросы, прямо возбуждаемые коренными стихиями быта и непосредственно окружающею природою, – там ученый, литератор, артист и всякого рода общественный деятель являются не более как сотрудниками и спомогателями в общем движении народного преуспеяния; там есть общее начало, которому служить все одинаково считают себя обязанными и которое безмолвным согласием каждого признается выше мелких требований личности и частных интересов всякого рода. Там, стало быть, и возможен нравственный элемент в образовании: по тому именно самому, что есть взаимность, основываемая не на исключительном интересе, но на уважении к общему началу, представляющему интерес всесовокупный. Там, стало быть, возможно и нравственное сочувствие, то есть основанное на этом самом уважении к общему. Там, стало быть, возможен и разумный спор, ибо дано для него единство основания. Там, наконец, возможен и плодотворный обмен мыслей, ибо каждая частная мысль и каждая частица деятельности может быть органическим членом в общем движении, взаимно зависеть от других и взаимно усиливать другие. Но там, где образование пришло сверху, явилось внезапно, с первого раза определилось как власть, водворялось насильно, – там, по необходимости, оно должно явиться привилегиею, даровым уделом меньшинства, для которого малознающий становится уже не спомогающим братом, имеющим право взаимно и на мою помощь, а илотом, париею, нуждающимся в моем снисхождении и покровительстве. В просвещение примешан элемент презрения к ближнему, господство частного и личного, и нравственное значение загублено с первого раза. Самое знание получает затем все признаки, отличающие внешнее приобретение вообще. Мнения меняются легко, ибо держатся не на существенной потребности. Между тем, к каждому из них, пока оно держится, прилагается вся исключительность нетерпимости, опять по тому же самому, что нет общего, чему бы оно покорялось, – оно только представитель частного иль личного. Словом, духовная деятельность приобретает характер материальной собственности; а с тем вместе образование, следовательно, перестает быть тем, чем оно должно быть, т. е. образованием. Оно становится не деятельностью мысли, а пустою внешностию, массою сведений и общих мест, иногда с призрачным нарядом систематичности: духовное начало даже не тронуто. Какая же тут возможна логичность спора? Какая возможна бескорыстность сочувствия? Спор должен являться одною заносчивостию, несогласие – отзываться личным оскорблением. А обмен мыслей и будет не более как обменом, т. е. механическим отложением и приложением. И когда среди такой сферы нечаянно явится, в ком не призрак только мысли, а мысль, и не призрак убеждения, а истинное убеждение, не правда ли, они не будут не только признаны, но даже узнаны? К ним отнесутся, как к тому же, чем заявляет себя вся общность существующая образования, т. е., как к призраку. И как, среди данных условий, при отсутствии высшего духовного начала, с которым бы сверялась частная мысль и тем решалась ее приемлемость, словом – при отсутствии нравственной силы мнения определяющим началом должна вступить сила физическая, так сказать – внешняя обширность голоса, или простое количество провозглашателей, – то всякая живая и самостоятельная мысль рискует пройти даже совершенно незамеченного.
Скоро ли пройдет эта печальная пора нашего развития; не поднимается ли уже заря новой, лучшей для него эры; и не предвидится ли она именно в грядущей важной нашей реформе: все это покажет – оправдает или опровергнет – время. Но дотоле, к остающимся еще деятелям, для которых нравственный вопрос в образовании не пустое слово, которые всеми силами души служат высшему духовному началу, каждый по степени своего разумения, словом, дотоле ко всем остающимся людям убеждения нельзя не обратиться с словами поэта, того же поэта, нашего покойного председателя: