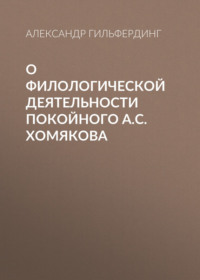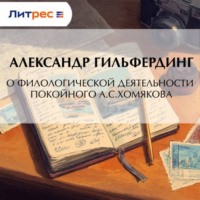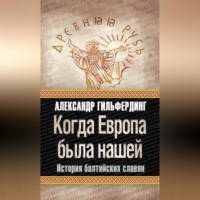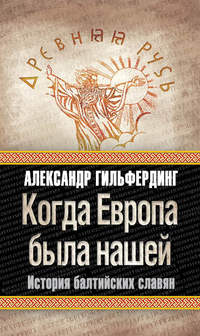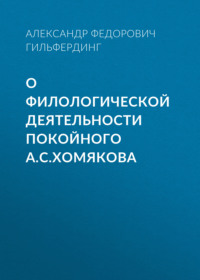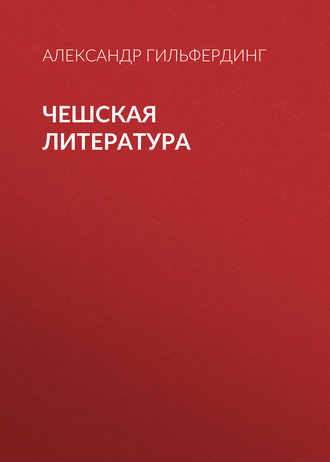 полная версия
полная версияЧешская литература
Это продолжалось даже после уничтожения ордена иезуитов (упраздненного в 1773 году). Еще в 1780 году жандармы отыскивали по всем краям Богемии чешские книги и предавали истреблению.
В продолжение этих ужасных 160 лет никакая умственная деятельность на чешском языке не была, разумеется, возможна. Чешские писатели прежнего времени, пережившие белогорскую битву и успевшие спастись за границу, продолжали, более из патриотизма, чем для практической пользы своих соотечественников, писать и печатать книги по-чешски, но по неволе прибегали чаще к языку латинскому, на котором их могла выслушивать Европа. Когда же умер последний из этих писателей-эмигрантов, Коменский (он скончался в 1671 году), то некому было сменить это поколение, так-как в самой Чехии умственная жизнь была убита. Убитою казалась и самая народность чешская. Массы немецких колонистов заняли опустошенную и покинутую туземцами страну. Конфискованные у чехов-протестантов имения были розданы немцам и разным иностранцам, служившим при австрийском дворе. Чешский язык пал на степень мужицкого просторечия. Когда, в XVIII веке, вновь пробудились в Богемии умственные интересы, органом их стал язык немецкий; во второй половине прошлого столетия Прага считалась одним из центров немецкой интеллигенции. В то же время ряд законодательных мер, принятых между 1770 и 1780 годами, окончательно изгнал чешский язык из присутственных мест и училищ; без знания немецкого языка нельзя было поступить даже в ремесленный цех. Средства, принятые тогда против чешского языка, были, по замечанию современника Пельцеля, почти те же, какие употреблены были после белогорской битвы для обращения чехов-протестантов в католицизм, и которые действительно приведи к тому, что в 50 лет вся Богемия сделалась католическою. «Из сего, прибавляет этот автор (должно заметить, что Пельцель был чех-патриот), можно с вероятностью заключить, что современем Богемия в отношении в языку будете находиться в том же положении, в каком находятся ныне Саксония, Бранденбургия и Силезия, где в настоящее время господствует исключительно немецкий язык и где от славянского языка ничего другого не осталось, как названия городов, деревень и рек.»
Пельцель писал это в 1790 году. Трудно определить причины, по которым его пророчество не сбылось. Кажется, чешская народность обязана этим предшествовавшему гуситскому движению и ужасу, катастрофы, его завершившей. Все, что прошедшее Чехии имело благородного и славного, было в ней связано с славянским именем; имя немецкое в её истории являлось символом обскурантизма и самой страшной тираннии. Понятно, что все, сколько-нибудь свободомысленное и даровитое, переходило на сторону чешской народности, как только она обнаружила вновь признаки жизни. Этим объясняется, каким образом немецкий элемент, опираясь на все силы правительства, администрации и школы и располагая целою массою природного германского населения, в короткое время уступил в Чехии, перед горстию литераторов и учоных, все позиции, завоеванные полуторавековою политикою Австрии.
Три года после того, как австрийские жандармы вновь обыскивали села, чтобы жечь чешские книги, именно в 1783 году Карл-Генрих Там напечатал «Оборону чешского языка» (Obrana gazyka czeskeho), и в том же году другой чешский патриот, Алоизий Ганке, издал в Бръне (Брюнне) в Моравии по-немецки книгу, в которой он убеждал держаться родного языка (Empfehlung des böhmischen Sprache). Это были первые вестники возрождения. Вскоре потом (1785) составилось в Праге общество молодых людей, которые давали театральные представления по-чешски. Этим чешский язык впервые заявил о своих правах на существование в образованном кругу и приобрел некоторую популярность. Тогда же началась деятельность Прохазки, предпринявшего издание лучших произведений прежней литературы чешской, исследователя чешской старины Пельцеля, Брамериуса, который в 1785 году основал чешскую газету и в течение 20 лет напечатал 84 сочинения на чешском языке, и наконец знаменитого Добровского (род. 1753, ум. 1829).
Добровский был по преимуществу учоный. Он писал свои сочинения частию по-латыни, частию по-немецки; он даже не верил в возможность возрождения чешского языка и народности. Тем не менее, к нему всего вернее относятся слова нашего поэта, когда он говорит:
«Вот, среди сей ночи темной,Здесь, на Пражских высотахДоблий муж рукою скромнойЗасветил маяк в потьмах.О, какими вдруг лучамиОзарились все края!Облачилась перед намиВся славянская земля!»Значение Добровского действительно то, что он «засветил маяк в потьмах». Он определил законы чешского языка, восстановил его историю и первый научным образом уяснил связь всех славянских племен и наречий. Успех на деле превзошол ожидания Добровского. Под конец своей жизни он уверовал в будущность чешской народности и начал сам писать по-чешски.
В 1790 году умер император Иосиф II, которого, с голоса немцев, и мы привыкли прославлять как одну из светлых исторических личностей и который действительно заслужил признательность своих подданных некоторыми благодетельными мерами (облегчением участи крепостных крестьян и ослаблением деспотизма римско-католической церкви), но вместе с тем был ярый враг славянства и вел в систематическому истреблению всего славянского в Австрии. Как только его не стало, чины чешского королевства обратились в его преемнику с просьбою допустить вновь преподавание на чешском языке в училищах Богемии. Правительство отвечало на это разрешением учредить в Пражском университете одну кафедру чешского языка и словесности. Тогда нашлись люди, которые начали обучать чешскому языку безвозмездно в гимназиях и семинариях. Вот факт, который показывает, какая преданность делу уже в то время одушевляла сторонников славянской народности в Чехии.
Вслед за первыми деятелями возрождения, имена которых мы назвали выше, выступили Шнейдер, Пухмайер, два брата Неедлые, Гневковский, Полак и бессмертный своими заслугами Юнгман. Они стали отваживаться уже в область поэзии; Шнейдер бросил писать немецкие стихи, доставившие ему некоторую известность, и начал писать чешские стихотворения; но преобладающий характер литературы оставался учоный. Нужно было, так сказать, отрыть славянскую народность в Чехии из-под груды развалин и восстановить перед пробуждавшимся в народе сознанием картину его прошлого. Много способствовало этому делу учреждение, в 1818 году, по инициативе графа Коловрата, Чешского Музея, при котором возникло учоное общество, начал издаваться учоно-литературный журнал, а в 1830 году учредилась Матица, то-есть общество для издания полезных чешских книг. Обращенное на чешскую старину внимание повело к открытию многих замечательных памятников, которые в свою очередь действовали живительно на общество, почти забывшее язык и дела своих предков.
Этот период научной по преимуществу работы обнимает время до 1848 года. Умственная жизнь Чехии сосредоточивалась около учоных, как Юнгман, который в громадном, образцовом словаре собрал все литературные богатства чешского языка, Ганка, открывший «Краледворскую Рукопись» и издавший множество памятников, Шафарик, творец славянских древностей, Палацкий, воссоздавший историю чешского народа. К этим именам нужно присоединить Челяковского, Эрбена, Воцеля, Томка и др. Но недостаточно было восстановить прошлое чешского народа; нужно было уяснить ему его связь с великим славянским миром: ибо без этой связи что значила бы горсть чехов в центре западной Европы? Эта идея возникала и в людях прежнего поколения. Добровский изучал церковно-славянский язык и сравнивал славянские наречия; поэт Пухмайер сочинил русскую грамматику для чехов. С двадцатых годов та же идея проникает во всю литературу чешскую. Ее первый провозгласил Коллар в восторженной поэме своей «Дочь Славы», и потом развил в сочинении «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянского народа» (1837). Таже идея одушевляла общественную деятельность и учоные издания Ганки; она выразилась наукообразно в «Славянских Древностях» и «Славянской Народописи» Шафарика, в «Сравнительной грамматике славянских наречий» Челяковского, в его «Отголосках славянских песен» и т. д.; словом, она не была чужда ни одному из чешских писателей этого времени.
Другая отличительная черта этой эпохи заключалась в крайнем разнообразии работ тогдашних чешских писателей. Людей было мало, цель была громадная и всем общая, и потому никто не посвящал себя исключительно тому или другому роду литературы, а переходил от одного к другому, для пользы общего дела. Юнгман переводил «Потерянный Рай» Мильтона и составлял учонейший словарь; учоные по призванию, как Ганка, Шафарик, Палацкий, писали лирические стихи; поэты в душе, как Нолар и Челяковский, трудились над древностями и филологиею, Эрбен писал баллады и издавал юридические документы, Воцель сочинял эпические поэмы и разработывал археологию.
Возрождение чешской мысли шло с таким успехом, что в 30-тых и 40-вых годах за этими первостепенными вождями шла уже целая группа литераторов. То были поэты: Хмеленский, Лангер, Бубек, Бамарит, Винарицкий, а из младших Маха, Яблонский, Рубеш, Небеский, Виллани, Штульц, Фурх; драматурги: Блицпера, Тыль, Миковец и др.; авторы романов и повестей: тот же Тыл, Хохолушек, Марфк, Сабина, Вожена Немцова и т. д. Их одушевляло одно стремление – будить в чешском народе самосознание и славянское чувство. Вся эта литература не произвела, правда, ни одного первокласного художественного творения; но она принесла огромную практическую пользу. Замечательно, что единственный из всех названных нами поэтов, которого произведения не служили общей патриотической цели, а имели чисто субъективный характер, Маха, вовсе не ценился своими современниками, не смотря на то, что художественными достоинствами превышал многих популярнейших тогда поэтов.
1848 год обнаружил, что усилия тружеников науки и литературных деятелей были не бесплодны. Чешский народ поднял голову и потребовал возвращения принадлежащих ему прав; он гласно заявил свою солидарность с славянским миром. Бомбардирование Праги (12 июня 1848) и осадное положение, провозглашенное австрийским правительством, придушили на время этот голос – и наступило десятилетие тяжелого полицейского гнета. Политическая литература, которую создал-было Гавличек, замолкла с его ссылкою в тирольскую крепость; его поэтические произведения, отличавшиеся необыкновенным остроумием, оставались неизданными; замолкло и слово Ригера, открывшего чешскому языку поле политического красноречия. Но работа продолжалась, приняв несколько другое направление. Вместо создания учоных работ, на первый план выступила популяризация знания. Младшее поколение произвело также замечательных учоных: Иречва, Гануша, Гатталу, Вертятко и других; но это не такие крупные двигатели науки, как люди прежнего времени, Юнгман, Шафарив, Палацкий. Даже в поэзии и беллетристике мы находим менее выдающихся имен; можем назвать Пфлегера, Галева, Иосифа Эрбена, Каролину Светлу, переводчика Пушкина Бендля и др. Главное же содержание литературы составляет масса работ для передачи чешскому народу результатов, достигнутых во всех отраслях знания. Продолжая самостоятельную разработку вопросов, касающихся непосредственно чешского края и отчасти всего славянского мира, чешские писатели в последнее двадцатилетие поставили себе, казалось бы, задачею – освободите чешский народ от подчиненности немцам в умственном отношении. И они этого достигли. В настоящее время немецкий язык перестал быть необходим чеху, как образовательное средство; он ему нужен столько же, сколько иностранные языки нужны нам русским, т. е. для высшего, так-называемого университетского образования; но чех может в настоящее время, не зная ни слова ни на каком другом языке, кроме чешского, получить общее образование по всем предметам. Он имеет по-чешски всеобщую и австрийскую историю в книгах Томка и Сметаны, всеобщую географию в изданиях Запа и Палацкого (сына), логику Марфва, зоологию и ботанику Пресля, физику и астрономию.
Сметаны, минералогию и геологию Крейчего, химию Войтеха Шафарина, механику Майера, политическую экономию в разных сочинениях Ригера, действующие в Австрии законы в издании Шембери в д. Он имеет специальные чешские журналы: «Живу» по части естественных наук, основанную знаменитым Пуркине, который в ней популяризовал свои исследования, «Правник» журнал юридический, журналы: сельско-хозяйственный, педагогический, медицинский и др. Чех может прочесть на своем языке в прекрасных переводах лучших классиков древности, Шекспира и не мало других великих писателей. Наконец у него есть по-чешски превосходный энциклопедический словарь, издаваемый Ригером и почти уже оконченный. Умственная зависимость чешского народа пала; господство немецкого языка держится теперь только принуждением.
Результаты у нас перед глазами. Чешская народность, которую 50 лет тому назад лучший её представитель, Добровский, считал умершею, стала политическою силою, с которою начинают считаться, а со временем вероятно будут считаться гораздо более.
Палацкий сказал в одном из своих сочинений, что «славянский народ в Богемии, не смотря на свою малочисленность, по крайней мере один раз в продолжение своей истории получил, подобно голландцам и шведам, значение всемирное». Палацкий разумеет эпоху Гуса. Быть-может, когда-нибудь скажут, что и литература чешская, при всей тесноте её круга, совершила дело всемирно-исторического значения. Она воскресила целый народ славянский в средине западной Европы. Значение этого события едва ли подлежит оценке нашего времени; но, во всяком случае, дело, совершенное чешскою литературою, причислится к тем, против всякого чаяния и вероятия одержанным, победам духа над материальною силою, которые облагороживают человеческую природу и о которых с отрадою вспоминает история.
Сноски
1
К примерам аллитерации, которые приводит г. Прочек, прибавим следующие стихи из «Честмира и Власлава»:
Взрадова се Воймир велевелеВзвола с скалы гласем в лесе глучным:Незъярьте се, бози, свему слузе,Еж не пали обеть в днешнем слунци! и т. д.2
Это упоминовение о Новгороде дало повод к довольно странному толкованию. Защищая «Краледворскую Рукопись» от немецких придирок, в ней ничего не щадивших, г. Иречек зашол в настоящем случае слишком далеко в своем старании доказать её историческую достоверность. Его смутило то, что Новгород не был царством и не был покорен татарами, и потому он с восхищением указывает в русской летописи известие о взятии татарами Новгорода-Волынского. «Вот, говорит он, тот Новгород, о котором упомянул сочинитель „Ярослава“: ваш поэт верен исторической истине». Тут не принято во внимание только одно, что эпическая поэма не есть дипломатический документ. Очевидно, что поэт слышал о покорении Руси татарами; а Русь того времени, как ему было известно, состояла из двух главных частей: Киевской и Новгородской. Вот он и говорит, что татары подчинили себе старый Киев и Новгород пространный. Последнее выражение указывает прямо на то, что речь идет о великом Новгороде, а не о таком ничтожном городе, как Новгород-Волынский. Поэт слышал несомненно этот титул: великий Новгород, и не будучи знаком с подробностями отношений русских городов, понял его, как видно, в материальном смысле величины его окружности или его владений. Оттого-ю он и написал, с тою точностью выражений, какою отличается эпический язык древних чешских поэм – Новгород пространный.
3
Слово „язык“ в старинных чешских памятниках, как к у нас, употреблялось в смысле „народности“.
4
В Чехии существовал обычай принимать дворянский титул с частицею з, соответствующею немецкому von. Жижка заменил свой титул „в Троцнова“, титулом „в Калиху“, так-как чаша для причащения была символом гуситства.
5
Паны в Чехии означали членов высшей аристократии, магнатов; мелкие дворяне назывались: паноши; мы переводим это название словом – дворяне.