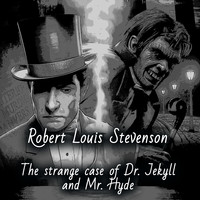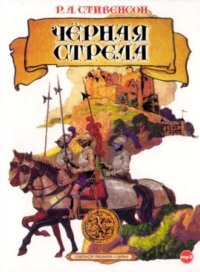полная версия
полная версияСент-Ив
– Поуль? – повторил я. – Мне кажется, это не вполне французское имя.
– Нет, сэр, ваше сиятельство, – начал Роулей, по-видимому, почувствовав ко мне доверие, – нет, мистер Анн, это не французское имя. Мне кажется, оно скорее произносится Поли.
– И этот Поуль служит виконту?
– Да, мистер Анн, – ответил Роулей. – Ему выпал тяжелый жребий. Виконт очень требовательный господин. Мне кажется, вы будете не таким, мистер Анн, – прибавил он, доверчиво улыбаясь мне в зеркало.
Роулею казалось около шестнадцати лет; он был строен; его веселое веснушчатое лицо освещала пара ясных глаз. В чертах юноши светилось ласковое и заискивающее выражение, которое мне показалось хорошо знакомым. Я вспомнил картины из моей собственной ранней юности, вспомнил то страстное обожание, которое я питал к нескольких людям, с тех пор давно потерявшим мое уважение или умершим; во мне воскресла память о том, с каким замиранием сердца я мысленно старался служить моим бывшим героям, с какой радостью я в своем воображении бывал готов умереть за них. Насколько выше и благороднее казалась мне их жизнь и смерть, нежели это было в действительности! Когда я смотрел в зеркало, мне чудилось, что в чертах Роулея я вижу эхо или призрак моей собственной ранней юности. Я всегда утверждал (частью оспаривая мнение моих друзей), что я прежде всего экономист, и, конечно, я ни за что на свете не пренебрег бы такой драгоценной собственностью, как поклонение юноши, видевшего во мне героя.
– Вы бреете как ангел, мистер Роулей, – заметил я.
– Благодарю вас, виконт, – ответил он и продолжал: – Мистер Поуль не боялся за меня. Поверьте мне, сэр, я бы не получил место при вас, если бы не был достаточно искусен. Мы ждали вас весь этот месяц, Господи Боже! Я никогда не видывал таких приготовлений! Каждый день топили, делали постель и т. д. Как только стало известно, что вы приедете, сэр, мне начали платить жалованье. И с тех пор я бегал то вверх, то вниз, ну, точно чертик в табакерке. Как только в аллее застучат колеса, я, бывало, бросаюсь к окошку. Много раз пришлось мне разочароваться; но сегодня, как только вы вышли из экипажа, я понял, что это мой… что это вы. О, да, вас ждали. Когда я сойду вниз ужинать, я сделаюсь героем нашей столовой. Всем так любопытно.
– Ну, – сказал я, – надеюсь, вы можете дать мне отличный аттестат: трезвого поведения, степенный, трудолюбивый человек, с хорошим характером, превосходные рекомендации с прежнего места. Да?
Роулей засмеялся с замешательством.
– Ваши волосы прелестно вьются, – сказал он, желая переменить разговор. – Но вот у кого они особенно сильно завиваются, у виконта! Только не от природы, да и редеть начинают. Виконт старится. Он пожил в свое удовольствие. Ведь правда, сэр?
– Дело в том, – заметил я, – что я очень мало знаю его. Наши семьи не видались, и я еще почти ребенком поступил на военную службу.
– На военную службу, мистер Анн, сэр? – вскрикнул Роулей с лихорадочным оживлением. – Были ли вы ранены?
Я не считаю нужным умерять восхищение, пробуждаемое моей личностью, потому, спустив шлафрок с одного плеча, молча показал мальчику рубец от раны, которую получил в Эдинбургском замке. Роулей посмотрел на него с благоговением.
– Боже мой, и вас ранил француз? – невпопад спросил юноша.
Я не солгал, подтвердив его догадку.
– Французская сталь, – заметил он с ужасом и наслаждением.
Хотя я имел основание предполагать, что ножницы, которыми мы дрались, были английского изделия, я не счел уместным противоречить ему.
– Да, – продолжал он, – в самом воспитании уже была разница. Тот виконт занимался лошадиными скачками, играл в кости, и так всю жизнь. Все это, без сомнения, хорошо, но я говорю, что это не ведет ни к чему. Между тем…
– Между тем виконт мистера Роулея… – подсказал я.
– Мой виконт? – повторил он. – Да, сэр, я говорил, что вы иное дело. А теперь, увидав вас, снова повторю это.
Я не мог удержаться от улыбки, и мошенник увидел ее в зеркале; он тоже улыбнулся мне.
– Да, опять повторяю это, мистер Анн, – проговорил Роулей. – Я знаю, где раки зимуют! Я понимаю, когда джентльмен – джентльмен. Мистер Поуль может убираться к черту со своим виконтом! Прошу прощения за то, что говорю так свободно, – вдруг прервал он свою речь и вспыхнул пунцовым румянцем, – мистер Поуль говорил мне, что не следует так болтать.
– Дисциплина прежде всего, – подтвердил я, – следуйте примеру старшего.
После этого мы обратили внимание на мое платье. Я с удивлением заметил, что оно мне было совершенно впору, не сидело на мне à la diable, как сидит солдатская форма или одежда, купленная готовой; все части костюма красиво облегали меня; так приходится только произведение искусного артиста, сшитое на любимого клиента.
– Это удивительно, – заметил я, – платье мне совершенно впору.
– Действительно, мистер Анн, вы оба точно сделаны по одной мерке, – сказал Роулей.
– Кто, кто оба? – спросил я.
– Вы и виконт.
– Черт возьми! Уж и платье-то на мне не его ли?
Однако Роулей успокоил меня. Как только зашла речь о моем приезде, граф передал вопрос о гардеробе в руки портного, шившего на него самого и на моего двоюродного брата; благодаря слухам о нашем сходстве, мне сшили платье по мерке Алена.
– Но все было сделано специально для вас, мистер Анн, уверяю, граф ничего не делает вполовину: топили камин, заказали самое тонкое платье, отдельного лакея приучали к его должности.
– Ну, – сказал я, – камин топится хорошо, платье отличное, а что за лакей мистер Роулей! Одно следует сказать в пользу моего кузена, то есть виконта мистера Поуля, – у него прекрасная фигура!
– О, не впадайте в заблуждение, мистер Анн, – проговорил Роулей, – его шнуруют в корсет.
– Полно, полно, мистер Роулей, – возразил я. – Не увлекайтесь, не обманывайтесь. Самые великие люди древности, включая Цезаря, Аннибала и папу Иоанна, были бы рады в наши с Аленом лета носить корсет, это общее несчастье, – сказал я и поклонился себе в зеркало, как бы собираясь танцевать менуэт. – Когда результат так удачен, как этот, кто же не станет восхищаться и аплодировать?
Мой туалет окончился; теперь меня ожидали новые сюрпризы. Моя комната, мой слуга и платье оказались лучше, нежели я мог надеяться; затем обед послужил откровением того, на что может быть способен человек. Я даже не воображал, чтобы повар из обыкновенного бычьего или бараньего мяса был способен создавать такие тонкие блюда. Вино оказалось превосходным на вкус, а доктор отличным собеседником, и я не мог отогнать от себя мысли о том, что все это богатство и изобилие могло сделаться моею собственностью. Да, для солдата, питавшегося из походного котла, для пленника, получавшего казенную порцию, для беглеца, испытавшего весь ужас закрытого фургона, перемена была заметной.
Глава XVII
Шкатулка
Едва доктор пообедал, как извинился и поспешил к своему пациенту; почти сейчас же и меня повели по высокой лестнице, по нескончаемым коридорам к моему дяде графу. До сих пор перед моими глазами были только доказательства значения и богатства этого важного человека, но с ним самим я еще не видался. Вспомните при этом, что с самого детства его унижали в моем мнении (первые эмигранты не могли заслуживать сочувствия того общества, в котором жил мой отец). Даже впоследствии все сведения, полученные мною о дяде, были какого-то сомнительного характера; сам Ромэн нарисовал мне не особенно симпатичный портрет графа; поэтому, войдя в его комнату, я устремил на него критический взгляд. Мой внучатый дядя лежал высоко в подушках на маленькой складной кровати, размером не больше походной койки; дышал он тихо и незаметно. Дяде было около восьмидесяти лет, и на вид он не казался моложе; не то, чтобы множество морщин покрывало его лицо, но чудилось, будто из его тела исчезла вся кровь, будто он уже потерял все краски жизни, будто его глаза, которые он постоянно закрывал, чтобы свет не тревожил их, выцвели и полиняли. В чертах больного проглядывало что-то хитрое, вселявшее в меня неприятную тревогу. Этот старик, лежавший со сложенными руками, напоминал мне паука, поджидающего добычу. Говорил он плавно и вежливо, но его голос звучал тихо, едва слышнее вздоха.
– Добро пожаловать, monsieur le vicomte Anne, – сказал он, смотря на меня в упор своими бесцветными глазами, но не двигаясь. – Я послал за вами и благодарю вас за вашу любезную поспешность, глубоко сожалея, что не могу встать и встретить вас как следует. Надеюсь, что вы останетесь всем довольны.
– Monsieur mon oncle, – сказал я с очень низким поклоном, – я явился по требованию главы семьи.
– Это хорошо, – ответил граф. – Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне обо всем, что послужило причиной того, что я имею удовольствие видеть вас здесь.
Холодность старика и воспоминания о далеком, печальном прошлом, которые он разбудил во мне своими словами, навеяли на меня грусть. Я вдруг почувствовал себя снова бездомным, одиноким и лишенным друзей; восхитительное сознание того, что я дома, что всё и все приветствуют меня, превратились в прах и пепел.
– Это недолго рассказать, monseigneur, – ответил я. – Мне ведь, понятно, незачем говорить о кончине моих несчастных родителей? Их история – история брошенной собаки.
– Вы правы. Я достаточно знаю об этом печальном деле; мне тяжело думать о нем. Знаете, племянник, ваш отец принадлежал к числу людей, которым трудно советовать что бы то ни было, – произнес граф. – Просто-напросто расскажите мне о себе самом.
– Боюсь, что вначале мне придется возмутить вашу чувствительность, – с горькой улыбкой сказал я, – моя история начинается у подножия гильотины. Когда однажды ночью прочитали список, и в числе других имен прозвучало «ее» имя, я был уже настолько понятлив, не благодаря летам, а вследствие горького опыта, что сознавал всю глубину своего несчастья. Она… – Я замолчал на мгновение. – Достаточно будет сказать, что она попросила свою подругу, госпожу де Шассерадес, взять на себя заботы обо мне. Благодаря милости наших тюремщиков мне было позволено остаться под кровом аббатства, составлявшего мое единственное пристанище; кроме тюрьмы, во Франции не было ни одного метра земли, на который я мог бы с безопасностью ступить. Граф, вы сами не хуже меня знаете, какую жизнь вели в аббатстве и как смерть косила заключенных. Вскоре и имя госпожи де Шассерадес появилось в том же списке, в котором недавно стояло имя моей матери. Она передала меня госпоже де Нойто, та, в свою очередь, попросила mademoiselle де Брэ заботиться обо мне и так далее. Только я один продолжал существовать, все же эти женщины проносились как облака, каждая из них день, два заботилась обо мне; затем мне говорилось последнее прости, и где-то там, в шумном Париже, окружавшем нас, происходила кровавая сцена. Меня любили, я составлял последнее утешение этих обреченных женщин! Став взрослым, я участвовал в жарких битвах, граф, но мне никогда не случалось встречать такого мужества, примеры которого я видал в детстве. Все делалось с улыбкой, сохранялся тон хорошего общества, меня приучали называть каждую из моих покровительниц belle maman. И вот в течение двух-трех дней моя «хорошенькая маменька» постоянно возилась со мной, ласкала меня, учила танцевать менуэт, заставляла читать молитвы, затем, нежно обняв и поцеловав меня, с улыбкой шла вслед за другими. Некоторые плакали. Таково было мое детство! Все это время господин де Кулемберг наблюдал за мной. Он даже готов был взять меня из аббатства на свое собственное попечение, но мои «маменьки» одна за другой противились этому. Где я мог находиться в большей безопасности, нежели в аббатстве, говорили они, и что сталось бы с ними без любимца всей тюрьмы? Вскоре оказалось, насколько прочна была моя безопасность в аббатстве. Наступил день истребления. Всю тюрьму опустошили; однако никто не обратил на меня ни малейшего внимания, даже последняя из моих «маменек», так как ужасная судьба постигла ее. Я смущенно бродил из угла в угол, пока меня не нашел один из людей, близких господину де Кулембергу. Впоследствии я узнал, что человек этот был нарочно послан за мной; чтобы проникнуть в тюрьму, он принял участие в невыразимых жестокостях; вот какой ценой заплатили за мое ничтожное, плаксивое, маленькое существо. Когда человек, посланный за мной, взял меня за руку, я пошел, не сопротивляясь. Помню только одно из моего бегства, а именно образ моей последней маменьки, которую я увидал. Описать вам картину, представившуюся моим глазам? – спросил я с внезапной жестокостью.
– Избегайте тяжелых подробностей, – заметил мой внучатый дядя, и его слова сразу умиротворили меня. Раньше я сердился на старика, я не старался щадить его; в эту же минуту я ясно понял, что и щадить-то было решительно нечего. Вследствие ли природной сухости или благодаря престарелому возрасту, но у графа совершенно отсутствовала душа; мой благодетель, приказывавший целый месяц топить камин в моей пустой комнате, мой единственный родственник (если не считать Алена, оказавшегося продажным шпионом) затушил во мне последние проблески надежды на него.
– Постараюсь, – ответил я, – да вскоре мне и не придется вспоминать о тяжелых вещах. Господин де Кулемберг взял меня к себе. Полагаю, сэр, вы знали аббата Кулемберга?
Дядя, не открывая глаз, утвердительно кивнул мне головой.
– Он был очень мужественным и очень начитанным человеком.
– И вел святую, благочестивую жизнь, – любезно прибавил мой дядя.
– Он вел святую жизнь, как вы изволили заметить, – продолжал я. – Аббат сделал бесконечно много добра и во время террора сумел спастись от гильотины. Он дал мне воспитание, достаточно хорошее для солдата. В его деревенском доме в Даммарике, близ Мелена, я познакомился с вашим агентом, мистером Викари, который точно только затем скрывался там, чтобы пасть, попавшись в руки шайки разбойников-поджаривателей.
– Бедный Викари, – заметил дядя. – Он несколько раз ездил во Францию по моим делам, и тогда его впервые постигла неудача. Quel charmant homme, n'est ce pas?[15]
– Вполне очаровательный, – подтвердил я. – Но я не стану более утруждать вашего внимания рассказом, подробности которого естественным образом должны быть более или менее неприятны для вас. Скажу лишь, что по совету аббата я в шестнадцатилетнем возрасте вступил на службу Франции и с тех пор не складывал оружия и вел себя так, что это не могло навлечь позора на мою семью.
– Вы это хорошо рассказываете, vous avez la voix chaude[16], – сказал мой дядя и несколько повернулся, как бы желая лучше рассмотреть меня. – Де Мозеан, которому вы помогли в Испании, очень хорошо отзывался о вас. И аббат Кулемберг, человек хорошего рода, воспитывал вас. Да, вы годитесь. У вас прекрасные манеры, вы красивы (что всегда кстати). Мы все красивы, даже я сам имел успех, воспоминания о котором до сих пор доставляют мне наслаждение. Я намереваюсь, племянник, сделать вас моим наследником; другим моим племянником, виконтом, я не вполне доволен; он не был почтителен ко мне, а человек в моем возрасте имеет право требовать к себе уважения. Кроме того, другие причины также заставляют меня изменить мои намерения.
Я был готов бросить в лицо графу наследство, которое он так холодно предлагал мне. В то же время я невольно вспомнил о том, что дядя – старик, что он мой единственный родственник; что я очень беден и нахожусь в затруднительном положении, что в моей душе живет сладкая надежда, которая может осуществиться с помощью этого наследства. Не был я в состоянии также прогнать из головы мысли о том, что, несмотря на свое ледяное обращение, граф с самого начала выказал относительно меня щедрость, и – я чуть было не написал – доброту, но это слово не применимо к понятию о дяде.
Я поклонился и сказал:
– Ваша воля должна быть для меня законом.
– У вас есть рассудок, monsieur mon neveu[17], – сказал старик. – Большинство оглушило бы меня своими благодарностями… Благодарность! – повторил он со странным выражением в голосе, затем откинулся и улыбнулся своим мыслям. – Однако поговорим о вещах, гораздо более важных. Возможно ли будет вам, военнопленному, утвердиться в правах наследства и сделаться владельцем имений, находящихся в Англии, положительно не знаю. Живя здесь, я не изучал того, что называют законами. Теперь далее: вдруг Ромэн опоздает. Мне необходимо совершить два дела: умереть и написать завещание. Как ни хотелось бы мне услужить вам, я все же не в состоянии отложить первого, чтобы успеть сделать второе; я могу располагать всего несколькими часами.
– Хорошо, сэр, в таком случае мне придется жить, как я жил до сих пор.
– Нет, – сказал граф. – Можно сделать нечто иное. Я только что взял от банкира мои наличные деньги, значительную сумму, и теперь намереваюсь передать их вам. У вас появятся эти средства, они пропадут для… – Дядя замолчал и улыбнулся такой злой усмешкой, которая удивила меня. – Однако необходимо, чтобы передача произошла при ком-нибудь. У виконта очень недоверчивый характер; если деньги будут переданы без свидетелей, он, пожалуй, заговорит о краже.
Граф позвонил. В комнату вошел слуга, похожий на доверенного камердинера. Дядя дал ему ключ и сказал:
– Ла Ферьер, принесите сюда ту шкатулку, которую вчера привезли; затем попросите доктора Гентера и господина аббата пожаловать ко мне на несколько минут.
Шкатулка графа оказалась большим ящиком, обтянутым русской кожей. Дядя передал мне ее в присутствии доктора и милого улыбавшегося священника; при этом граф ясным образом выразил свою волю. Свидетели остались, чтобы написать и скрепить своею подписью бумагу, говорившую о том, что произошло; меня же де Кэруэль отослал. Я направился в свою комнату. Ла Ферьер нес за мною драгоценный ящик.
У дверей моей спальни я, поблагодарив, отпустил старого слугу, взял из его рук шкатулку и вошел в отведенное помещение. Тут все уже было приготовлено к ночи. Роулей спустил занавеси и привел камин в порядок; в ту минуту, когда я вошел, мои молодой слуга оправлял постель. Он обернулся и приветливо взглянул на меня; сердце мое согрелось от этого взгляда. Действительно, я никогда еще так не нуждался в симпатии человеческого существа, хотя бы самого простого, как в ту минуту, когда вошел к себе в спальню с целым состоянием в руках. В комнате моего дяди я испытал полное разочарование. Он наполнил деньгами мои карманы, но задушил всякое человеческое чувство почтения или расположения к себе. Старость и опытность произвели на меня такое удручающее, мертвящее впечатление, что один вид молодого человека заставил меня довериться Роулею; он был еще мальчиком; его сердце еще должно было биться, в нем, без сомнения, сохранилась часть естественных и невинных чувств; он умел болтать глупости, он не превратился в машину, сделанную для произнесения безупречных речей. В то же время я уже начал освобождаться от тяжелого впечатления, произведенного на меня свиданием с дядей, и несколько воспрянул духом. В то мгновение, когда ко мне подбежал Роулей, чтобы взять из моих рук шкатулку, когда он взглянул на меня своим веселым, ничего не значащим взглядом, – Сент-Ив снова стал самим собой.
– Ну, Роулей, не торопитесь, – сказал я. – Это важная минута! Вы человек и слуга и уже прослужили мне целых три часа. При этом вы, конечно, успели заметить, что я довольно суровый господин, который больше всего на свете ненавидит хотя бы намек на фамильярность. Мистер Поуль, или Поли, вероятно, пророчески почуяв истину, предупреждал вас.
– Да, мистер Анн, – проговорил оторопевший Роулей.
– Теперь произошел один из тех редких случаев, которые иногда заставляют меня отступать от моих основных правил. Дядя дал мне ящик, который вы назвали бы рождественским подарком. Я не знаю, что лежит в нем; не знаете этого и вы: может быть, я одурачен, как человек, обманутый первого апреля, но может статься, что я стал чудовищным богачом. В этом, по-видимому, безобидном ящике могут лежать пятьсот фунтов.
– Господи! – воскликнул Роулей.
– Ну, Роулей, поднимите вашу правую руку и повторите за мною слова клятвы, – сказал я, поставив шкатулку на стол. – Говорите: «Бейте меня до синяков, если я когда-нибудь открою мистеру Поулю, или его виконту, или кому бы то ни было близкому к мистеру Поулю, не говоря уже о мистере Даусоне и докторе, какие сокровища лежат в этой шкатулке; бейте меня до багрово-синих подтеков, если я перестану любить, почитать и слушаться моего господина, если я не последую на все четыре стороны света и в воды, которые под землей, за вышеназванным (я вижу, что я забыл назвать его) виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом, известным под названием виконта мистера Роулея. Да будет так. Аминь». Роулей повторил клятву с такою же крайней серьезностью, с какой я проговорил ее ему. – Теперь возьмите ключ, – сказал я. – Я же буду держать крышку обеими руками.
Роулей повернул ключ.
– Зажгите все свечи, какие тут только есть, и поставьте их в ряд. Что-то там? Горгона? Чертик или пружина, которая заставит выстрелить пистолет? Ну, сэр, на колени перед чудом.
С этими словами я положил шкатулку боком на стол. При виде огромного количества банковских билетов и золота, очутившихся перед нами между свечей и частью упавших на пол, я остолбенел.
– Господи! – крикнул Роулей. – О, Господи, Господи, Господи!
Он пополз, чтобы поднять упавшие гинеи.
– О, мистер Анн, сколько денег! Точно в чудной волшебной сказке! Точно рассказ о сорока ворах!
– Успокоимся, Роулей, будем деловыми людьми, – проговорил я. – Богатство обманчиво, особенно когда деньги не сочтены, и первое, что нам предстоит сделать, это узнать цифру моего, скажем, скромного состояния. Если я не ошибаюсь, тут у меня столько денег, что я буду в состоянии всю нашу жизнь наряжать вас в золотые запонки. Собирайте золото, я возьму бумаги.
Мы сели на ковер перед камином, и некоторое время в комнате слышался только шелест бумаги, звон гиней, да изредка раздавались радостные восклицания Роулея.
Арифметическая операция, которой занимались мы, продолжалась много времени; может быть, она наскучила бы кому-либо другому, но меня и моего помощника это дело крайне интересовало.
– Десять тысяч фунтов! – наконец возвестил я.
– Десять тысяч, – повторил Роулей. И мы посмотрели друг на друга.
От громадности моего состояния у меня дух замер. Имея в руках такие деньги, мне нечего будет бояться врагов. В девяти случаях из десяти людей арестовывают не потому, что полиция отличалась хитростью, а потому, что у них оказывается недостаток в деньгах; тут же, в шкатулке, у меня была целая серия способов скрываться и переодеваться, словом, полное обеспечение моей свободы в будущем. И не только одно это давала мне шкатулка. Сделавшись обладателем десяти тысяч фунтов, я превратился в хорошего жениха. Все, что я сделал, когда был рядовым, заключенным в военную тюрьму, или беглым, можно было назвать поступками, совершенными под влиянием отчаяния; пожалуй, можно было и извинить эти поступки, как вызванные полной безнадежностью. Теперь же я имел право явиться с парадного подъезда, подойти к дракону с адвокатом и предложить ее племяннице руку и огромные средства. Бедному французскому пленнику Шамдиверу должен был вечно грозить арест, но богатый путешественник Сент-Ив, сидя в почтовой коляске и держа подле себя шкатулку, мог улыбаться судьбе и смеяться над слесарями. Я с восторгом повторял поговорку: любовь смеется над слесарями. В одно мгновение, благодаря этим деньгам, моя любовь сделалась возможной, стала близкой, очутилась на расстоянии вытянутой руки. Может быть, следует объяснить странностями человеческой природы то, что в эту минуту страсть загорелась во мне ярче прежнего.
– Роулей, – сказал я, – ваш виконт сделался человеком.
– Мы оба, – проговорил он.
– Да, оба, – подтвердил я, – и вы попляшете у меня на свадьбе!
Я бросил ему на голову пачку банковских билетов и только собрался осыпать его горстью гиней, как вдруг дверь отворилась и на пороге показался мистер Ромэн.
Глава XVIII
Мистер Ромэн бранит меня
Чувствуя себя в глупом положении от того, что Ромэн застал меня врасплох, я вскочил с ковра и попытался как следует принять моего гостя. Он пожал мне руку, но так неприветливо и холодно, что я был поражен. Во взгляде, который адвокат устремил на меня, читалось выражение печали и суровости.
– Итак, сэр, вы здесь, – произнес Ромэн далеко не ободряющим тоном. – А это вы, Джордж? Вы можете уйти; у меня есть дело к вашему господину.
Он указал Роулею на дверь, запер ее за ним, сел в кресло подле камина и взглянул на меня с нескрываемой суровостью.
– Не знаю, что и говорить, – произнес адвокат. – Вы создали целый лабиринт из ошибок и затруднений, и я положительно не знаю, с чего начать. Пожалуй, лучше всего дать вам прочесть вот эту статью.
Он передал мне газету. Заметка, о которой упомянул Ромэн, была очень коротка. В ней говорилось о том, что один бежавший из Эдинбургского замка пленник снова пойман, что его зовут Клозель; в конце прибавлялось, что он сообщил подробности возмутительного убийства, совершенного в замке, и назвал убийцу.