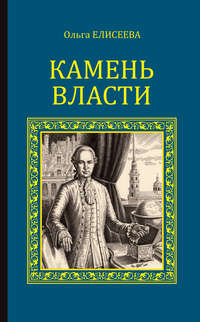Полная версия
Камень власти
– Дьявол! – тоненько запищал он и хотел вскочить, но темные глаза графа приковали его к месту. – Дья-явол, – повторил он еще тише.
Как и раньше, на трепыхание трактирного пророка никто не обратил внимания.
– Ты знал, что я найду тебя, – с мягкой укоризной сказал Сен-Жермен. – Зачем же ты сбежал?
– Я боялся, – выдавил из себя несчастный камердинер. – Я больше не мог жить в страхе. За вами повсюду ходит ужас!
– А разве теперь ты не боишься? – спросил граф.
– Еще больше, – признался Гов. – С той самой минуты, как сбежал, я не могу ни спать, ни есть от страха.
– В многом знании много печали, – усмехнулся граф. – Твой бедный разум, Рене, не выдержал самых элементарных вещей. Разве я не предупреждал тебя, чтоб ты никогда не заглядывал в мои тетради? Не пытался понять вычислений? – Сен-Жермен укоризненно покачал головой. – Ты знаешь, какая сила у произнесенного слова? Многого можно было избежать. Но ты обрек этих людей. – Граф обвел глазами зал. – Кто тебя тянул за язык?
Бывший камердинер часто-часто затряс головой.
– Ты очень устал? – спросил граф, глядя в осунувшееся прозрачное лицо Рене.
– Да, – тот уронил голову на руки. – Очень.
– Попроси меня об этом сам, – тихо приказал Сен-Жермен. – Иначе я не смогу помочь.
– Пожалуйста, хозяин, – голос Гова звучал жалобно и тихо.
Граф поднял руку и указательным пальцем коснулся середины лба несчастного. Голова Рене опустилась на стол. Казалось, он уснул, хватив лишку. И снова никто не обратил на это внимания.
Граф встал и без особой спешки покинул трактир. В дверях он столкнулся с сияющим Жаком, который подбрасывал на ладони три золотые монеты.
Метр Гонто ждал спутника на улице.
– Все в порядке?
– Да, дорогой друг. Вы мне очень помогли. Больше этот безумец нас не обеспокоит.
– Слава богу. Я так и скажу маркизе.
– Передайте ей от меня привет и искреннюю благодарность, – поклонился граф. – Да, вот еще что. Нет ли у вас знакомых среди ювелиров в Петербурге? Не могли бы вы рекомендовать меня им как специалиста по исправлению камней?
– Маркиза приказала мне оказывать вам любую помощь, – отозвался банкир. – А ее слово для меня закон.
– В благодарность за вашу услугу я берусь нарастить и исправить для вас те драгоценные камни, которые как-нибудь пострадали: были оцарапаны или обломились.
– Очень любезно с вашей стороны, – с сомнением протянул банкир. Он побаивался подвергать свои камни опасности в руках странного алхимика, о котором невесть что болтают.
Сен-Жермен усмехнулся, граф ясно увидел сейчас, как через неделю этот солидный недоверчивый делец совсем обезумеет от восторга и будет умолять его взять для исправления еще, еще камней…
Менее двух недель понадобилось для того, чтоб облачко в глубине Голубого алмаза растаяло, перекочевав в Дерианур, и затеплило в его сердцевине новую душу. Вместе с ним из талисмана Генриха IV уходили слава, могущество, удача христианнейшего королевства, которыми оно владело полтора века со смены династий. И эту жертву легкомысленный монарх принес добровольно. Даже не задумываясь о последствиях.
Его Величество захлопал в ладоши при виде работы таинственного графа и с восхищением подставил бриллиант под луч солнца, бивший из окна.
– Теперь он безупречен, – вздохнул Сен-Жермен. – Потому что мертв. А только жизнь терпит недостатки.
Но король пребывал в детском восторге.
– Сколько вы хотите за работу?
– Я и так получил самое драгоценное, – поклонился Сен-Жермен. – Душу камня. Чего же мне еще?
– Дорогой граф, вы чудак. – Людовик расплылся в улыбке. Он не любил платить. А маркиза де Помпадур и так дорого ему стоила. Ее гости тоже.
Когда карета увезла короля, Сен-Жермен спустился по лестнице на первый этаж. Метр Гонто ожидал графа в охотничьем зале. Одетый, как всегда, с подчеркнутой строгостью, банкир выглядел среди ветхих гобеленов и роскошной, но давно рассохшейся мебели аккордом чего-то нового и грозного, что неотвратимо надвигалось на великолепную рухлядь времен последних Валуа.
Впрочем, в лице самого банкира не было ничего воинственного. Добропорядочный буржуа, посчитавший бы величайшим несчастьем исчезновение ежеутренней чашки горячего шоколада и румяных булочек.
– Друг мой, – граф ласково взял метра Гонто под руку. – Вы оказали мне неоценимые услуги, отправив по моей просьбе несколько рекомендательных писем в Петербург. Я чрезвычайно признателен вам за хлопоты и хотел бы отплатить… добрым советом.
Банкир весь обратился в слух.
– Постепенно, не вызывая шума и не привлекая ничьего внимания, переведите свои капиталы за границу. – Граф кивнул в подтверждение сказанных слов. – Не сразу. Не бойтесь. Но в течение ближайших 30 лет и вы, и ваши дети должны покинуть эту несчастную страну и обосноваться в каком-нибудь более спокойном месте. В Лондоне, например.
Лицо метра Гонто вытянулось. Он был свидетелем слишком невероятных событий, чтоб не верить графу. Но, с другой стороны, его дело было слишком обширно, а связь с королевским двором слишком прочной, чтобы вот так сняться и уехать…
– Я же сказал: не сразу, – ободрил его Сен-Жермен. – 30 лет – немалый срок. Вы, метр, пожалуй, еще успеете понянчить в Париже внуков и даже благополучно почить в Бозе на Сент-Женевьевском кладбище. Но, думаю, и мертвому неприятно будет видеть осквернение своей могилы и разграбление монастыря, давшего ему последний приют. Поторопитесь.
Несколько минут метр Гонто молчал. По его лицу было видно, что он самым серьезным образом отнесся к предостережению графа.
– Так вы отправляетесь в Россию? – наконец проговорил банкир.
– Да, – кивнул Сен-Жермен. – Там собралось много занятных людей. С некоторыми из них мне следует познакомиться.
Глава 2. Alma Mater
Сентябрь 1758-го, за год до описанных событий. Москва
– Вы писали эти гнусности?
Свет бил в высокое университетское окно, вычерчивая кривобокие фигуры на темном дубовом полу. В его столбе кружилась золотая пыль, и было не по-осеннему тепло. Беспредметное счастье охватывало душу при взгляде на еще зеленые, разросшиеся вокруг здания бывшей царской аптеки липы, и в голове жужжала нахальная радостная мысль: «Чего это я, собственно, сюда притащился в такой день?»
– Это ваш почерк? – еще настойчивее зазвучал голос профессора Шнейдера. – Эти мерзости нарисованы вашей рукой? – Он говорил по-немецки, с жутким швабским акцентом, едва понятным ученикам.
Потемкин поморщился. «Я уж не прошу, чтоб ты по-русски разговаривал. Но на родном-то языке мог бы и постараться».
– Вам, юноша, я вижу, не нравится мое произношение? – рассвирепел профессор. – Вы обучались в пансионе Литке, не так ли? Там преподают берлинцы. Может быть, мне повторить свой вопрос?
Студент отрицательно покачал головой. Он стоял перед столом, за которым сидело чуть ли не все университетское начальство. Профессор Шнейдер держал в руках листы, исписанные размашистым почерком и изрисованные портретами собравшихся. Ни подходить ближе, ни смотреть не было нужды. Это почерк Потемкина, и разве он виноват, что слово «профессура» так легко срифмовалось со словом «дура», а лысина адъюнкта Румберга похожа на огурец?
Напротив проштрафившегося студента сидел сам куратор. Он заехал, как видно, ненадолго, прямо из дворца, и был в придворном платье. Императрица еще пребывала в Москве. Жаль, ах как жаль! Месяцем позже, и Шувалова уже никто не посмел бы беспокоить в Северной столице досужими письмами об исключении кого-либо из студентов.
Иван Иванович старался не смотреть в лицо еще недавно лучшего, а сегодня гонимого из стен alma mater ученика. Он уставился добрыми усталыми глазами в стену и машинально перебирал карандаши на столе. Сам Шувалов никогда бы не решился никого выгнать, но его почти приперли к стене.
– Изволите видеть редкую безнравственность этого недоросля, – зло шипел профессор Девиер. – А вы его еще в прошлом году ко двору в Санкт-Петербург возили.
«Ну ты-то, понятно, за Анхен мне глаза выцарапать готов, – внутренне усмехнулся Потемкин. – Надо было в детстве свою толстощекую дочку воспитывать, чтоб господам-студентам на шею не вешалась. А теперь можно хоть пол-университета исключить, все равно не поможет».
– Ученики часто находятся в откровенном непослушании! – Шнейдер пришепетывал и выходило довольно потешно. – Свистят на лекциях, срывают парики с преподавателей, отказываются писать под диктовку.
«Ты еще скажи, скажи причину такого поведения, казнокрад несчастный! Растащили себе все дрова, так что в классах зимой чернила замерзают и пальцы крючит от холода – писать нельзя. Понабрали вас, невежд, учите черти чему…»
– Если это поношение профессуры не прекратится, мы все вынуждены будем подать в отставку, покинуть Россию и отправиться домой, – вяло заключил Шнейдер. Остальные профессора согласно закивали.
«Нужны вы кому-то дома, – хмыкнул Потемкин. – Были бы хорошие ученые, не поехали бы в нашу тундру, у нас же здесь медведи белым днем людей на улицах едят, особенно немцев. Наживаетесь на нашей дикости, нам и вас потерять – беда!»
– В неповиновении этот у них зачинщик, – толстый палец Шнейдера уперся в грудь студента.
«Дурак ты, ваша милость, хотя и профессор. Кто гуляет да карикатуры рисует, не бывает зачинщиком, ему просто лень».
– Он уже больше полугода не ходит в классы! – Девиер потряс увесистой кожаной папкой. – У меня все журналы есть.
«А что мне у вас делать? – мысленно огрызнулся Потемкин. – Если я в один год прошел курс пяти лет? Ведь за это же мне золотую медаль и дали. Никто не подумал, а дальше-то что?»
Иван Иванович поднял на студента грустные глаза. «Ну что ж ты, брат, так меня опозорил?» Ему приходилось решать, решать в пользу бездарных, нагловатых, самому ему смерть как наскучивших людей, без которых бы погибло едва начатое дело. И он, куратор, чувствовал себя безвольным государем, которому подсовывали пару-тройку смертных приговоров, а чернила уже капали на лист с поднесенного пера. Мальчики были способные, быть может, гордость будущей российской науки, но не о них речь. Вся сотня даровитых и серых, знатных и безвестных студентов французского класса благородной гимназии Московского университета то сдержанно, то открыто травила, смеялась и презирала привезенных им, с такими усилиями купленных, уговоренных, задаренных обещаниями преподавателей-немцев. Плохих, слов нет, плохих. Но других-то не будет, пока эти вот крикуны не одумаются, не сядут за книги и не выучатся у приезжих, а больше своим умом, хоть чему-нибудь.
– Скажите, сударь, – обратился Иван Иванович к понуро стоявшему перед ним Потемкину, – то, что говорит профессор Шнейдер, правда?
Студент молча кивнул. Капля сорвалась с пера – приговор был подписан.
– Мне очень жаль, юноша, но вы своим поведением уже сами отчислили себя из рядов славного российского студенчества. – Куратор встал.
«Боже мой, Иван Иванович, что же вы такое говорите? – Кровь бросилась в лицо Потемкину. – И вы с ними заодно? Как можно отчислить меня? Кто же здесь тогда останется?»
Шувалов, видимо, собирался спешно ретироваться из университета, пока его еще к чему-нибудь не понудили, но Шнейдер, почтительно склонившись перед ним, прошептал:
– Ваше сиятельство, еще четверо. Злостные устроители беспорядков.
Куратор обреченно вздохнул и сделал знак звать остальных.
Президент Камер-коллегии Григорий Матвеевич Кисловский, мрачный, как грозовая туча, оперся локтями на обеденный стол. Чего, конечно, никогда не позволил бы себе в другом состоянии духа. То, что хозяин дома перестал следить за своими манерами, было дурным знаком. Прислуга, боязливо косясь на него, поспешно убирала посуду.
– Вон! – рявкнул Григорий Матвеевич. – Потом догребете!
Воспитанник молча сидел перед ним, глядя потускневшими, но сухими глазами в гневное лицо благодетеля.
– Встать! – заорал Григорий Матвеевич, когда дверь за лакеями закрылась.
Потемкин вскочил.
– Бездельник!
Сережа, сын Кисловского, ровесник Потемкина, уныло наблюдал за происходящим из своего угла и старался придать лицу серьезное сообразно обстановке выражение. Сколько бы он ни корчил сочувственные рожи, но в том, что стихи и рисунки попали в руки университетского начальства, Гриц винил именно его.
С некоторых пор Потемкин стал замечать, что младший Кисловский невыносимо ревнует его за успехи на учебном и амурном поприщах, за то что отец, крупный чиновник со связями, возлагает на не богатого, но одаренного воспитанника больше надежд, чем на сына. А когда прошлой зимой сам Шувалов забрал Грица в числе лучших учеников в Петербург для представления императрице, Сережа не знал, куда себя деть от обиды. Масла в огонь подлила еще и белокурая Анна Девиер, предпочитавшая за так целоваться с бедным студентом, чем обменивать свои ласки на Сережины перстеньки и шелковые ленты.
– Сергей Григорьевич, извольте выйти, – тихо, но требовательно заявил Кисловский. – Все, что здесь происходит, не имеет к вам никакого касательства.
Сережа вспыхнул и поспешно покинул столовую.
«Странно, – думал Потемкин, глядя на покровителя, – даже сейчас мы подумали об одном и том же». Ему было нестерпимо больно из-за того, что Григорий Матвеевич так разгневан на него. Он любил и уважал Кисловского, более того, знал, что сам Кисловский тоже любит и уважает его.
Лицо президента Камер-коллегии напряглось, он наклонился вперед и навис над столом, как хищная птица. Исключенный студент подавил робость и тоже уперся руками в стол. Если бы кто-нибудь видел их в этот момент, то поразился тому, как они похожи. Оба всклокоченные, злые, готовые вот-вот сцепиться. Кровь давала себя знать, Кисловский был двоюродным братом отца Потемкина. Однако в памяти Грица всегда вспыхивало одно и то же воспоминание, мешавшее ему объяснить внимание и заботу Григория Матвеевича простым родством.
Мать привезла мальчика в Москву из смоленской глухой деревеньки Чижово. Отец с каждым днем все больше пил, откровенно отказывался признавать сына своим ребенком, и несчастная женщина боялась, как бы выживший из ума старик попросту не убил Грица. Дарья Васильевна, в прошлом редкая красавица, а теперь измученная и едва живая от бесконечных придирок мужа, отправилась в первопрестольную к богатой родне искать для мальчика покровителя. Кисловский нашел их сам, в небольшом домике Дарьи Васильевны у Никитских ворот.
– Кого искать-то, Даша, голубушка? Почему не сразу ко мне?
Потемкин навсегда запомнил растерянное и затравленное лицо матери:
– Что же ты, Гиц? Кланяйся, кланяйся его сиятельству, целуй ручку. – Дарья Васильевна слегка подтолкнула мальчика в спину. – Вы уж его простите, благодетель батюшка, совсем он у нас дикий.
Лицо Кисловского тоже стало бледным и растерянным.
– Даша, что же он с тобой сделал? – произнес гость сдавленным голосом.
– Простите нас, ваша светлость, из такой глуши выбрались, ни сказать, ни угодить вам толком не умеем.
Григорий Матвеевич не выдержал и, схватив женщину за плечи, с силой тряхнул.
– Даша, он бьет тебя, что ли?
– Всяко бывает, ваша светлость, – просто кивнула она. – А мальчика к вам нельзя, узнает, что сын у вас, еще пуще озлится.
– И мальчика ко мне, и сама уезжай от него с дочерьми, – твердо заявил Кисловский. – У тебя есть дом в Москве, я помогу. Здесь под моим покровительством тебя никто тронуть не посмеет.
– А девочки? – слабо возразила она. – Они ведь еще дома, в Чижово. Поеду туда, он обратно не выпустит.
– Хочешь я с тобой воинскую команду пошлю? – рассмеялся вдруг Кисловский.
Григорий Матвеевич был прав: мать, какой бы забитой не выглядела, все же не лишилась рассудка. Вскоре она действительно перебралась в Москву и даже стала выезжать в гости к родным. Словно очнувшись от полуобморока, Дарья Васильевна снова смеялась, шутила и даже иногда пела по просьбе собравшихся. У нее был дивный голос. В такие минуты на Кисловского не стоило смотреть.
Однажды Гриц, возвращаясь к себе в комнату, услышал шепот, идущий из простенка между окнами. Там была тень, но не такая, чтобы не узнать хорошо знакомых людей.
– Вы так целовали мне руку десять лет назад. Оставьте, друг мой. Мы ведь и тогда были уже немолоды.
– Если б я не был женат, если б я встретил вас раньше, чем мой брат-варвар…
– Полноте, если б не этот варвар, мы бы вообще не встретились…
Стук кулака об стол вернул Потемкина к реальности.
– Когда ваша матушка советовала вам после окончания пансиона Литке отправиться в полк, – загремел Кисловский, – лучше, видимо, зная ваши порочные склонности, я встал на вашу сторону и настоял на поступлении в университет, полагая, что для вас будет полезнее заниматься науками, а не долбить устав караульной службы. – Григорий Матвеевич перевел тяжелое дыхание. – Считая неудобным оказывать помощь лишь своему сыну, я оплатил и ваше пребывание в классах. Я потратил на вас столько денег, сколько никогда не позволял себе тратить на себя. За время вашего прошлогоднего пребывания в Петербурге вы издержали более ста рублей. Мне остается только склониться к мысли, что вы мотали, развлекаясь карточной игрой, пьянством и так далее.
Под словами «так далее» Кисловский понимал женщин. Когда он говорил: «Я еду в коллегию и так далее», – можно было пребывать в полной уверенности, что вечером его дома не окажется, он завернет к некой даме на Кузнецком Мосту и будет пить у нее кофе со сливками до утра.
«Самое смешное, – думал Потемкин, – что в Петербурге я не только не мотал, но и едва сводил концы с концами». Сто рублей пошли на прокорм еще нескольких товарищей, которым родные не смогли ссудить для поездки сколько-нибудь приличной суммы и купить платья. А жить приходилось при дворе. Гриц жестоко презирал пару очень состоятельных воспитанников, которые отправились с ними не столько по выбору самого куратора, сколько по указанию на них со стороны преподавателей, которым хорошо заплатили высокопоставленные родители студентов. Эти сынки откровенно гнушались своих непритязательных спутников и с самого первого дня откололись от них, стыдясь показываться вместе.
– Вы взяли себе привычки не по чину! – Кисловский готов был разнести стол вдребезги. – Вы бездельник и дармоед! Да, сударь мой, дармоед. Я не сумел вырастить из вас дворянина, моя вина. И видеть вас в своем доме я более не желаю. Знать не хочу, что с вами дальше будет. Вон! Немедленно!
Потемкин поклонился и быстро вышел.
Сборы оказались почти молниеносными, так как он считал себя не вправе взять большую часть вещей, купленных на деньги все того же Кисловского. Гриц вышел из дому в чем был, прихватив только связку книг и теплый плащ.
Итак, его выгнали, не дав даже денег на дорогу. Ну, деньги он, положим, еще займет, но стоит ли вообще ехать?
На улице пыльный ветер крутил первую опавшую листву, в палисадниках рдели клены. Кто-то смеялся на втором этаже старомодного допетровского дома. Во дворе палат бояр Стрешневых толстые бабы выбивали ковер. Кому теперь принадлежали палаты? Чьи были бабы? Чей ковер? Кто смеялся в открытом окне? Потемкин не знал. Он брел, опустив голову, поминутно спотыкаясь о выбоины в булыжной мостовой. Ломоносов из него не вышел, да и вообще сил создать из себя что-то путное бывший студент не чувствовал. Куда он шел? А куда ему было еще идти?
В последние полгода Гриц чуть было вовсе не переселился в Заиконоспасский монастырь. Гонимый из классов университета скукой, он как-то раз забрел сюда, прослышав о богатстве монастырской библиотеки. Конечно, его бы не пустили, но… все же племянник президента Камер-коллегии, и сам митрополит Амвросий говорит о нем очень хорошо… С неохотой и оговорками студента провели в книгохранилище, но предупредили, что почти все книги по-гречески, так что юноша едва ли сможет удовлетворить свое любопытство. Каково же было удивление братьев, когда они услышали, что именно греческие книги и интересуют молодого гостя. К этому времени Потемкин уже год самостоятельно долбил божественный койне и даже пытался переводить Гомера.
Ноги сами вынесли Потемкина к монастырю. Странно, но его уже ждали. Амвросий приказал проводить Грица к себе, как только он появится. В Заиконоспасском у митрополита были особые покои, которые он занимал всегда, когда приезжал сюда ради все той же богатейшей библиотеки. Потемкин перекрестился, чувствуя, что сейчас ему предстоит беседа не менее тяжелая, чем с Кисловским. Он знал митрополита по дядиному дому, где часто собирался тесный круг образованных земляков. Амвросий сразу обратил внимание на начитанного мальчика, который даже не скрывал, что мечтает стать священником.
– Твои родные будут против, – кротко покачал головой митрополит. – На кого обопрется мать? Она вдова, у нее нет других сыновей, одни дочери. Ты должен будешь обеспечить их приданым. Нет, чадо мое светлое, – Амвросий ласково потрепал Грица по непослушным кудрям, – тебе придется служить государю.
Тогда их разговор на том и окончился, но митрополит не мешал юноше торчать день и ночь в библиотеке, помогать в храме во время богослужения и даже приглашал к себе участвовать в богословских беседах.
Тонкий профиль Амвросия казался еще более аскетичным в трепетном свете лампадок. Вся стена митрополичьей кельи, куда привели Грица, была с пола до потолка завешана иконами в дорогих окладах, перед которыми теплились негасимые огоньки свечей. Ранние осенние сумерки уже глядели в забранное свинцовыми решетками окно. Росший у стены на улице тополь то и дело кидал на подоконник желтоватые листы, а слабый вечерний ветерок задувал их в комнату.
– У тебя большие неприятности. – Старик слабо улыбался, словно говоря, что все на свете неприятности – детская забава перед тишиной и нерушимой крепостью здешних стен. – Боюсь, что я тоже виноват в них. Ведь это я позволил тебе проводить столько времени в монастыре. Впрочем, даже если б я не позволил… Итак, что ты намерен делать теперь?
Долго сдерживаемая обида захлестнула юношу. Он опустился на колени возле лавки, на которой сидел Амвросий, и поднял на старика умоляющий взгляд.
– Отче, не прогоняйте меня! – прошептал Гриц. – Вы же знаете, что я хочу остаться при монастыре.
Старик чувствовал, как потоки обиженных, почти детских слез заливают его руку, как мальчик торопливо целует персты своего наставника, и ему становилось стыдно за то, что он должен обмануть безумную надежду ребенка. Амвросий отстранил от себя Грица и отрицательно покачал головой:
– Нет.
– Но я…
– Во-первых, ты слишком молод и недостаточно знаешь собственную душу, чтоб сейчас решить за всю свою последующую жизнь. Раскаяние может оказаться слишком поздним.
Гриц попытался возразить, но митрополит жестом остановил его.
– Во-вторых, – продолжал он, – в тебе сейчас говорит не столько любовь к Богу, сколько любовь к знаниям. Ты тяготеешь не к уединению от мира, радости которого для тебя еще не стали чужими, а к книгам, спрятанным от постороннего глаза в наших хранилищах. Обещаю, они для тебя останутся всегда доступны. Испытай себя, укрепись в своем желании, и тогда наш разговор можно будет продолжить.
Потемкин грустно опустил голову. Косые тени свечей скользили по его упрямому скуластому лицу, играя светом в золотисто-русых кудрях, и старик на мгновение задумался о том, как необычайно привлекателен этот мальчик.
– Милый Гриц, – митрополит погладил согнутыми пальцами пылающую щеку юноши. – Прости, если я тебя обижу, но ты должен знать о себе еще кое-что не слишком приятное. – Он помолчал, а затем решился: – Ты слишком красив, чтоб не сделать грех своей второй натурой, и слишком умен, чтоб не начать вскоре презирать людей, потому что большинство из них даже не будут понимать, о чем ты говоришь.
– Но ведь можно все объяснить, – возразил Потемкин.
– Ты устанешь объяснять, – усмехнулся Амвросий. – Устанешь постоянно коверкать язык и приспосабливать свои суждения к уровню тех, кто образован хуже тебя, как это происходит во время наших богословских бесед, когда ты не терпишь возражений даже от духовных лиц. Твоим бичом всегда будет гордыня, а именно она погубила когда-то лучших ангелов. То, что простительно для мирянина, не найдет оправдания в священнике.
Гриц подавил раздраженный вздох.
– Твой ум пытлив, – продолжал Амвросий, – но постоянное смятение твоих чувств не располагает к спокойному и ясному отречению от себя.
Потемкин поднял на наставника глаза, полные такого искреннего горя, что старику сделалось жаль глупых мальчишеских надежд. Он потрепал Грица по щеке и ободряюще улыбнулся ему.
– Я думал, наши беседы не пропали для тебя даром, а ты уходишь от меня с такой же незащищенной душой, как пришел. Быть может, с годами ты станешь тверже и, если тогда твое стремление не покинет тебя, иди в какую-нибудь дальнюю нищую обитель и там начни свое служение, ибо здесь близость мирской власти растлевает даже самые светлые души.