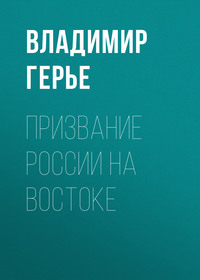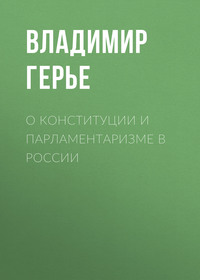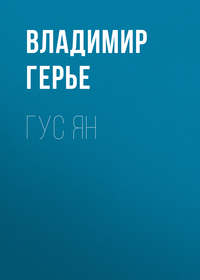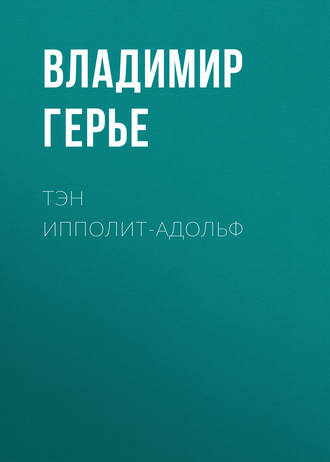 полная версия
полная версияТэн Ипполит-Адольф
Картинные галереи представляют собой такой же склад фактов, как гербарии и зоологические музеи. Научный анализ может быть одинаково приложим как к тем, так и к другим. Этих взглядов Т. держался и в следующем своем труде, с которым он перешел в новую область – историю и теорию искусства. Подготовившись путешествием по Италии, наблюдения над которой он изложил в своем «Voyage en Italie», T. приступил к чтению курсов в художественной академии, где он был назначен профессором истории и эстетики в 1864 г. Самые курсы еще не изданы (напечатаны лишь две лекции – о Леонардо да Винчи и о Тициане), но общие взгляды свои Т. изложил в ряде небольших монографий: «Философия искусства» (авг., 1865); «Философия искусства в Италии» (окт., 1866); «Об идеале в искусстве» (июнь, 1867); «Философия искусства в Нидерландах» (окт., 1868) и «Философия искусства в Греции» (окт., 1869). Все эти монографии с 1880 г. издаются под одним общим заглавием «Philosophie de l'Art» (до 1897 г. 7 изданий, перев. на яз. английский и русский). И в этой области искусства «научный метод» Т. исходит из тех же предположений, приходит к тем же требованиям. Великая задача человеческого духа, какой дорогой он бы ни шел, – повсюду изучение законов и причин. Художественные произведения также создаются по законам, которые можно наблюдать. Влияние среды в области искусства Т. изображает на избранных им примерах: в области скульптуры – в Древней Греции, в области архитектуры – в средние века, в трагедии – во Франции XVII в., в музыке – в XIX в. В «Философии искусства» Т. определяет отношение искусства к природе: это подражание, но намеренно не точное, ибо оно имеет целью ярче и полнее изобразить господствующий тип или характер, который в действительности не так рельефен. Это определение представляет, можно сказать, ключ к художественному творчеству самого Т. в его исторических характеристиках. В этом же самом сочинении, говоря об «идеале в искусстве», Т. расширяет пределы критики: она исследует не только эволюцию художественных школ и произведений, их возникновение из известной среды и законы этого возникновения, но и оценивает их по достоинству. Наряду с «научной точкой зрения» он признает здесь еще две – точку зрения эстетическую и моральную. С этих точек зрения рассматриваются уже не «элементы, создавшие художественное произведение, а общее направление его» (la direction des choses), и «эти точки зрения так же законны, как научная». Согласно с этим Т. произносит «суждения». Он говорит своим слушателям: «в течение пяти лет, изучая художественные школы Италии, Нидерланд и Греции, мы постоянно и на каждом шагу произносили суждения». В этом видели самопротиворечие у Т., отречение от прежнего правила не произносить суждений, а «стараться все понять» и «все прощать»; но это не отречение от научного метода, а его эволюция. Признавая в области художественной критики, кроме научной задачи, задачи эстетическую и моральную, Т. пытается и для двух последних заменить субъективное мерило личного вкуса объективным, дилетантский метод – научным. Он ищет научных оснований для эстетических и для моральных суждений. На них он строит новую классификацию – научную – художественных произведений. Он заимствует мерило для эстетической их оценки из естественных наук и из реального мира. Достоинство художественного произведения измеряется в эстетическом отношении степенью важности изображаемого в нем типа и сосредоточением эффектов (la convergence des effets). Такое сосредоточение художественных эффектов, бьющих в одну цель, он наблюдал сам в пиренейских пейзажах и возводил теперь в общее правило.
Для моральной оценки художественных произведений Т. обращается к области социальной: мерилом он признает здесь степень благотворности или вредности изображенных типов (caractõre bienfaisant ou malfaisant). Еще много раньше Т. пришел к убеждению, что «вполне человеком человек становится только в обществе». До тех пор Т. занимался только «частной психологией», т. е. изучал отдельно законы, проявляющиеся в литературных и художественных произведениях той или другой эпохи того или другого народа, того или другого индивидуума. Наконец, ему удалось сосредоточиться на центральном предмете своих занятий – на «общей психологии», составлявшей ключ к его мировоззрению, методу и отдельным исследованиям. В 1870 г. вышло его сочинение «De l'Intelligence» (9 изд.; пер. на англ. и рус. яз.). Под этим словом Т. разумеет способность или способ познавания. Психология в особенности нуждалась в обновлении: «это был старый инструмент, настроенный еще Рейдом и уже не издававший звуков». Если ею стали пренебрегать, то потому, что она не делала открытий – а это происходило от того, что она основывалась лишь на самонаблюдении; чтобы сделать ее способной открывать новое, надо было изменить и орудие наблюдения, и самый наблюдаемый предмет. Т. исходит при этом из принципа, что везде, где можно наблюдать составные элементы, возможно по их свойствам объяснить свойства сложного предмета, в состав которого они входят. Таким образом, Т. спускается до последних элементов познавания, чтобы затем подниматься постепенно до простых, а потом и до самых сложных форм познания. Единственный источник наших познаний – наши ощущения (sensations), которые воспроизводятся в нас посредством представлений (образов, images) и упрочиваются посредством названий (noms, signes). T. разлагает эти искусственные знаки и доходит до образов, а по разложении их приходит к ощущениям. Научная задача в психологии заключается в том, чтобы перевести все темные, неопределенные, отвлеченные и сложные слова на факты, на частицы фактов, на отношения и комбинации фактов. Надо оставить в стороне такие слова, как рассудок, разум, воля, сила личности и даже самое слово я, подобно тому как были оставлены (слова – жизненная сила, целительная сила (vis medicatrix), растительная душа. Это не что иное, как литературные метафоры; все значение их в том, что они представляют некоторое удобство в качестве выражений, сокращающих и выражающих собою итоги. Таким образом, Т. доходит в своем анализе до ощущений, подлежащих самонаблюдению; за ними простирается бесконечная область ощущений, не поддающихся сознанию; здесь останавливается психология – но вместо нее являются анатомия и физиология для исследования физических элементов нравственных явлений. Т. идет по этому пути; он достаточно подготовлен к тому своими занятиями. В результате мы имеем молекулярные движения в нервных центрах: Между ними и ощущениями пролегает непроходимая бездна. Но не потому ли это нам так кажется, что способ познавания их нами различный, даже противоположный? Одни мы постигаем внутри себя без посредника, другие – вне себя, через нескольких посредников. Вторая часть сочинения представляет обратный путь исследования. От ощущений мы поднимаемся к познаванию тела, потом духа, наконец, общих идей. На всем этом пути природа прибегает к, одному способу действия: «она создает в нас иллюзии и она же их поправляет» (les rectifie).
В этой части своего труда Т. пользуется научной индукцией Стюарта Милля и Вэном; все остальное, по его словам, у него ново – и метод, и выводы. Один из главных результатов этой науки о душе – исчезновение самой души. Человеческое я не выдержало под напором фактов, открытых в нем научным анализом. Il n'y а rien de rèel dans le moi, sauf la file de sesévénements. Как и в других случаях, у Т. сухая формула облекается при объяснении в живописный образ. «Вереница фактов, составляющих человеческое я, представляется лучезарным снопом (une gerbe lumineuse) и наряду с ним поднимаются вереницы других аналогических явлений, составляющих телесный мир, различных по виду, но тождественных по существу и кругами расположенных друг над другом; игрой своих лучей они наполняют беспредельную бездну пространства. Бесконечная масса ракет одного и того же типа, на различной высоте беспрерывно поднимающихся и вечно тонущих в полной мрака пучине, – вот что такое физические и нравственные существа. Какой-то всеобъемлющий поток, какая-то непрерывная преемственность метеоров, зажигающихся лишь для того, чтобы потухнуть и снова зардеть и потухнуть, без устали и конца – таково зрелище мира; таково оно по крайней мере при первом взгляде на него, когда он отражается в крошечном метеоре, который мы сами собой представляем». Но если на почве этой психологии исчезает душа как реальный предмет, то исчезает и другая «словесная сущность», ей противоположная, – материя. Самые атомы становятся «геометрическими центрами». Т. был, таким образом, совершенно прав, когда защищался против упрека в материализме: «вывод моего исследования, – говорил он, – тот, что физический мир сводится к системе понятий (signes), что в природе нет ничего реального, кроме элементов духа в различной группировке; полагаете ли вы, что настоящий материалист подписался бы под этим»? Т. не был материалистом и потому, что допускал нравственную ответственность человека. «Можно быть, как Лейбниц, детерминистом и с Лейбницем признавать ответственность человека… Полный детерминизм и полная ответственность, эта старинная доктрина стоиков, в настоящее время разделяется двумя самыми глубокими и самыми противоположными мыслителями Англии: Стюартом Миллем и Карлейлем – и я под ней подписываюсь». Т. не был материалистом и по своему отношению к религии. Он считал несовместимым с современной наукой лишь «современный, римский католицизм»; «с широким и либеральным протестантизмом примирение вполне возможно». Т. высоко ценил христианство как элемент нравственной культуры. Особенно характерна в этом отношении та страница, которую Т., указав, что ослаблению христианства в истории всегда соответствует моральный упадок общества (Ренессанс, Реставрация в Англии, Директория), заключает словами: «ни философский разум, ни художественная и литературная культура и никакое правительство не в состоянии заменить его влияния. Только оно может удержать нас от рокового падения, и старое евангелие – и теперь еще лучший союзник социального инстинкта». – За исследованием о познавании должно было следовать другое, о воле, в котором Т. пришлось бы объяснить сочетание детерминизма с признанием нравственной ответственности и построить свою этику на научной почве; но обстоятельства дали трудам его иное направление. Т. находился в Германии, когда началась франко-прусская война. Весну 1871 г. он провел в Оксфорде, куда его пригласили читать лекции.
По возвращении в Париж он нашел свое отечество глубоко взволнованным войной и коммуной и находящимся в процессе перерождения. Т. не раз признавался, что он не любил политики; в ранней молодости он был увлечен наукой, а при Наполеоне ему только и оставалось заниматься наукой. Теперь обстоятельства натолкнули его на политические вопросы: он написал статью об условиях мира с Германией, брошюру о лучшем способе всеобщей подачи голосов, статью о патриотическом приношении по поводу уплаты военной контрибуции и др.; но практическая деятельность в области политики была для него закрыта. Он мог, однако, сделать больше для своего отечества, чем журналист или депутат: в минуту переживаемого Францией кризиса он мог поставить перед ней зеркало истории, содействовать ее самосознанию и дать ей возможность в ее прошлом найти указания для предстоящей ей реорганизации. «Я весьма не люблю политики, но очень люблю историю», – писал Т. Теперь для него явилась возможность сочетать то и другое: у него назрела мысль написать историю происхождения современной Франции – «Les origines de la France comtemporaine». T. и для самого себя искал в этом труде руководящих принципов. «До моих Origines, – писал он, – я не имел политических принципов и даже предпринял мою книгу, чтобы их доискаться». Сочинение, предпринятое Т., должно было состоять из 3 частей: изображения старой Франции, революции и новой Франции, построенной на развалинах старой. Первая часть вышла в 1876 г. под названием «L'Ancien Régime» (до 1899 г. 23 издания; перев. по-нем. и по-русски). Это скорее история французского общества, чем государства. Т. хорошо объясняет строй старого порядка из общественных потребностей средних веков, а затем показывает, как этот строй пережил вызвавшие его причины и сделался источником привилегий и злоупотреблений. Контраст культурного аристократического общества салонов и придавленной поборами народной массы выставлен на вид мастерски. Вторая часть – Революция – заключает в себе три тома: l) «L'Anarchie» (до 1900 г. 18 изданий); 2) «La Conquête Jacobine» (1881; до 1900 г. 16 изд.) и 3) «Le Gouvernement révolutionnaire» (1884; до 1900 г. 14 изд.). Это сочинение представляет собой крутой переворот в разработке истории революции. Все прежние – из более известных – истории этого события можно было причислить к ораторской, патриотической историографии; это были апологии всей революции или одной из господствовавших в ней партий. Правда, в лице О. Конта позитивизм коснулся революции, но непоследовательно; осудив учредительное собрание за то, что оно исходило из «метафизики», т. е. из «общих принципов» свободы и равенства, Конт видел в деятельности конвента поворот к обновлению человечества. Т. приложил к революции на всем ее протяжении свой «научный метод»: анализ, т. е. разложение общих понятий на составные элементы, или факты, и размножение фактов. Для этого он собрал из напечатанных памятников и архивных источников громадный исторический материал, часто подавляющий читателя. Бесчисленные старые и новые факты расположены с замечательной архитектоникой, и однообразие их расцвечено поразительными метафорами и картинами. Еще резче, чем различие между прежним и новым методом, был контраст между деятелями революции и изображавшим их историком. Те были дети классического духа, ораторского рационализма; историк их был пионером научного духа. Никто из членов учредительного собрания не затруднялся дать Франции новую конституцию, так как это представлялось им чисто теоретической задачей. Критикуя их дело, историк называет его «самым трудным на свете». Заменить старые рамки, в которых жила великая нация, новыми, приноровленными к ней и прочными – предприятие, превышающее силы человеческого духа. Французские законодатели начали с составления декларации прав человека и гражданина. Это значило, что они исходили из понятия о человеке, как о разумном существе. Такому представлению Т. противопоставляет понятие о человеке, почерпнутое из антропологии и истории первобытной культуры: «по природе своей и по строению человек – плотоядное существо; его предки терзали друг друга с каменными орудиями в руках из-за куска сырой рыбы; человек все тот же – нравы его смягчились, но природа не преобразилась». С этой точки зрения Т. относится скептически к работе учредительного собрания, к его затее создать новую Францию на основании теории разделения властей и догматики «общественного договора». Его внимание поглощено оборотной стороной дела, до тех пор остававшейся в тени.
Прежняя власть упразднена; новое правительство отвлечено прениями и теориями. Вследствие этого в стране водворяется «безначалие» – «l'anarchie spontanèe». Событие, послужившее началом этой анархии, прежними историками рассматривалось как патриотический подвиг, внушенный чистым идеализмом; для Т. это un nom, символ, который нужно разложить на факты и пред читателем впервые развертывается картина уличного, революционного движения, написанная художником-психологом. Картина эта мало-помалу расширяется и охватывает всю Францию в ее хаотическом состоянии, созданном безначалием. Эта анархия послужила благоприятной почвой для зарождения нового политического типа и захвата им власти. Т. давно сознавал, что якобинец – центральная фигура революции, подобно пуританину в английской революции 1648 г., и что нужно «объяснить его психологически, чтобы понять французскую революцию». Теперь Т. дает психологическое объяснение этого типа, на основании чрезвычайно тщательных изысканий определяет распространение его во Франции и затем описывает захват якобинцами власти вопреки выработанной ими и принятой французским народом конституции 1793 г. Еще в 1854 г., читая книгу Бюше, Т. был поражен «посредственностью» якобинских вождей: это впечатление осталось у него до конца и отразилось на его характеристике якобинцев. Это, однако, не помешало ему красноречиво защищать их против Карлейля: «они были преданы отвлеченной истине, как ваши пуритане – божественной; они следовали философии, как ваши пуритане – религии; они ставили себе целью всеобщее спасение, как ваши пуритане – свое личное» и т. д. Но от идиллии, соединявшей в один образ и «жаков», которые без хлеба и одежды дрались на границе за гуманитарные интересы и отвлеченные принципы, и якобинцев, Т. был теперь уже далек в 1878 г. В якобинстве он видел «зловредный (malfaisant) политический тип», происшедший от «гипертрофии властолюбия, вскормленного догмой о всемогуществе государства на благоприятной для того почве анархии, созданной революцией». Историческое значение якобинства заключалось в создании нового деспотизма в централизованной и демократизованной Франции. Т. объясняет перемену своего взгляда на революцию и якобинцев более близким знакомством с ними: «изучение документов, – говорит он, – сделало меня иконоборцем» (iconoclaste). На самом деле перемена произошла от того, что у Т. выработались новые определенные представления об обществе, его строении и функциях, об условиях цивилизации и о государстве – представления, противоположные тем, которые господствовали во время революции и проводились якобинцами. Его протест против последних был тем ожесточеннее, что Т. видел в торжестве этих принципов причину бедствий современной им Франции. Для Т. цивилизация – не внезапный плод отвлеченных принципов, а результат медленного и долгого произрастания (le produit net de l'histoire) накопления трудов лучших людей и лучших народов. Выработка цивилизации есть высшая функция общества; но, чтобы быть к этому способным, общество должно сохранить свое естественное строение, личность – свою свободу. Эта свобода нужна не только в интересах самой личности, но и для развития в ней социального инстинкта, который может проявиться лишь в свободных ассоциациях. Отсюда необходимость самоограничения государства по отношению к личности и к ассоциациям личностей. Личность должна иметь возможность руководиться честью и совестью, лучшими продуктами истории; «в силу совести личность признает за собой обязанности, от которых ее никто не может освободить; в силу чести она признает за собой права, которых никто не может ее лишить». Отсюда же вытекает обязанность государства допускать те ассоциации, в которых проявляется социальный инстинкт личности, и не только щадить эти ассоциации – церковь, общину, благотворительные, ученые и др. общества, – но и заботиться о широком, плодотворном развитии их деятельности. Вреднее всего захват государством деятельности местных учреждений. В весьма сильных выражениях Т. изображает нравственный вред безусловной централизации власти. С этой точки зрения якобинский деспотизм представлялся ему самым антикультурным явлением – и он не скупился на факты и не щадил красок для его обличения. Впервые была начертана полная картина бедствий, перенесенных французским населением под якобинским деспотизмом, картина тем более поражающая, что она оттенялась изображением полной несостоятельности самого якобинского правительства и его окончательным банкротством. Впечатление, произведенное этой историей якобинства на французское общество, воспитанное на революционном предании и культе централизации, было сильно и неблагоприятно для Т. Большинство его критиков видело в его произведении только исторический памфлет. Отчасти Т. мог подать к этому повод своим стилем и своими «художественными» приемами. Из третьей части книги – «Le Régime moderne» – Т. сам успел издать 1-й том (в 1891 г.), касающийся Наполеона и его реконструкции французского государства.
Наполеон подведен Т. под тип итальянского кондотьера или principe эпохи Ренессанса, сохранившийся в стоявшей в стороне от культуры Корсике. Если поклонники Наполеона могут быть недовольны нравственной его оценкой, то они не могут пожаловаться на умаление исторического значения этого «зодчего, собственника и главного обывателя Франции от 1799 до 1814 г., создавшего современную Францию и глубже отпечатлевшего свой личный образ на коллективном деле, чем кто-либо иной». Второй том, неоконченный, издан в 1893 г. по смерти Т. (6 изд.) и заключает в себе два исследования Т. о церкви и школе, напечатанные в «Rev. d. deux Mondes». T. мастерски изобразил значение конкордата, сделавшего из французского духовенства класс «государственных чиновников», а впоследствии содействовавшего установлению папского абсолютизма над католической церковью. Организация школы была «личным делом» Наполеона, сделавшего из школы и университета орган администрации, монополию государства, «преддверие к казарме». Этот отдел книги Т. имеет, помимо исторического, высокое педагогическое значение. Третий том должен был касаться отношений государства к местным учреждениям, которыми так дорожил Т. Из него известен только отрывок в одну страницу, в которой Т. описывает вредные последствия ложной государственной политики, ведущей к атрофии этих учреждений. – Наряду с способностью мысленно группировать и объединять явления и подводить их под логические формулы, Т. обладал большою впечатлительностью и наблюдательностью. Отсюда потребность записывать впечатления, производимые на него новой обстановкой. Из таких пометок возник целый ряд описаний. Кроме вышеназванных «Voyage aux eaux des Pyrénées» (1855, до 1893 г. 13 изд.) и «Voyage en Italie» (1866, 9 изд.), сюда относятся «Notes sur l'Angleterre» (1872, 10 изд.). По смерти Т. изданы были его заметки о французской провинции, составленные им в 1863-66 г. во время его командировок в качестве экзаменатора истории и немецкого языка для Сен-Сирской военной школы: «Carnets de voyages: Notes sur la province» (1897). Самое оригинальное из этого рода сочинений Т. – его наблюдения над парижским обществом, женщинами, молодежью, воспитанием, нравами, весьма сатирического свойства, под маской возвратившегося из Америки (для контраста) француза. Они печатались в «Vie parisienne» в 1863-66 г. и изданы в виде книги в 1867 г.: «Notes sur Paris. Vie et opinions de Mr. F. Th. Graindorge» (до 1901 г., 13 изд.). Т. хотел также испытать себя в области романа и в области поэзии. Его роман остался неоконченным; его 12 юмористических сонетов, посвященных «моим кошкам», были напечатаны тотчас после его смерти в «Фигаро» – без разрешения семьи.
ЛитератураGiraud «Essai sur Taine, son oeuvres et son influence» (1901; очень ценно по библиографическим указаниям и приложениям, но автор, проф. франц. литературы в Фрейбургском – швейцарском – католическом унив., не чужд клерикализма); Barzelotti, «I. Taine» (Рим, 1895, с дополнениями); Sainte Beuve, «Causeries de Lundi» (XIII т.); E. Scherer, «Etudes c ritiques» (т. IV, VI, VII, VIII); P. Bourget, «Essais de psychologie contemporaine» (1883); G. Monod, «Maîtres de l'histoire» (1894); Am. de Margerie, «H. Taine» (1894); E. Biré, «H. Taine» (1895); E. Droz, «La Critique littéraire de T.» (1896), P. Lecine Seits, «T. et la Ré v. fr.» (Женева, 1896); E. Boutmy, «Taine, Scherer et Laboulaye» (1901); Brunetiere, «Histoire et litt é rature» (т. III): «Questions de critiques», «Nouvelles Q. d. crit.», «Evolution de ta critique»; Faguet, «Politiques et Moralistes du XIX sc.» (1900); «Тит Ливий. Крит. исслед. Т.» (пер. с франц. Е. И. Герье. С примечаниями и очерком научной деятельности Тэна В. И. Герье, «И. Т., как историк Франции» («Вестник Европы», 1878. 4, 5, 9 и 12); его же, «Метод Т.» (ib., 1889, кн. 9); его же, «И. Т. и его значение в историч. науке» (ib., 1890, 1 и 2); его же, «И. Т. в истории якобинцев» (ib., 1894, кн. 9-12); его же, «Демократический цезаризм во Франции» (ib., 1895, кн. 6 и 7); ст. К. К. Арсеньева (т. же, 1891,1 и 2; 1893, 4); ст. И. Иванова (в «Рус. богатстве», апр. 1891).