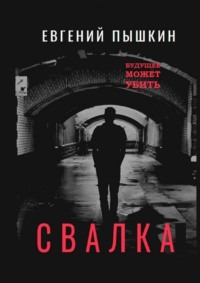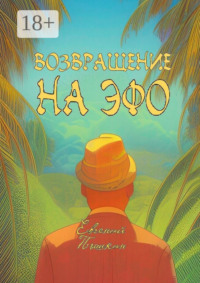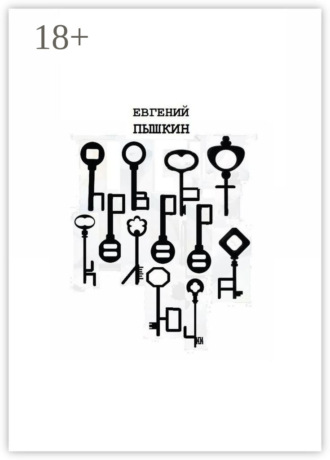
Полная версия
Поворот ключа. Сборник рассказов
– Я ничего не понимаю. Зачем этот маскарад?
– Господин Лебедев, идемте в пансион, и я все объясню, обещаю.
«Еще одна исповедь», – мелькнула мысль.
Они оказались в пансионе. Прошли в номер Дмитрия.
– Понимаете в чем дело, господин Лебедев, эти курган и цветы в память о моей дочери. Вы, наверно, знаете историю о доме – слухами земля полнится. Так вот, когда умерла Поля – моя дочь, – с женой все пошло наперекосяк. Сейчас забылось, но, кажется, дня не проходило без взаимных упреков. Что-то сломалось в моей и ее душе. Что-то безвозвратно ушло. Детей она больше не хотела. С чего вдруг пришла такая блажь? Поверьте, я пытался изменить ситуацию, но жена… В итоге разошлись. Дом остался на мне, и, похоже, я – больной человек. Люди бегут от прошлого, которое ранит их, пытаются забыть мрачные эпизоды жизни, но я… Я остался здесь и растравил душу воспоминаниями о дочери. Воздвиг этот курган, приношу цветы…
Господин Кнехберг замолчал.
– Я понимаю вас, – тихо произнес Дмитрий. – Но к чему таинственность, ведь рано ли и поздно все узнают. Человек любопытен от природы.
– Да, да, да, сколько раз повторял заученную формулу: человеческое любопытство, оно вездесуще, но я не хочу, чтобы касались меня, желаю надеть маску и играть роль, как страшно б не звучало, ибо мое прошлое – это мое прошлое. Не надо жалеть меня. Понимаете?
– Да, – ответил Дмитрий скорее по инерции, чем осознано.
Нависло молчание. Они сидели в полной темноте, и Павел Аркадьевич внимательно разглядел едва различимые очертания собеседника. Почудилось ему, что это манекен, кукла в человеческий рост. Она недвижна и безучастна. Можно наговорить ей все, что угодно.
Он тихо произнес:
– Не буду мешать вам, пожалуй, господин Лебедев.
– Спокойной ночи.
– Но вы никому не рассказывайте.
– Я обещаю.
Когда дверь закрылась, Дмитрий разделся и лег. Отвратительное состояние завладело им, словно он перенапрягся: мышцы как ватные, дышать тяжело. Он смежил веки. Свинцовый сон завладел разумом.
Дмитрию пригрезился господин Кнехберг, в бешенстве разбирающий курган и бросающий камни в море, но те не тонули, и волна приносила их к берегу, чудесным образом складывая новый курган.
10
Дмитрий несколько раз приступом брал текст, словно, штурмуя крепость. И всякая атака срывалась. Или, казалось ему, это был пиратский корабль, проплывающий мимо. Он поманил, но сойти на чужую палубу или взять на абордаж не хватило решимости. Было что-то в этих словах, помимо лежащего на поверхности пессимизма и скепсиса в отношении технического прогресса. Что? – Он не смог объяснить. Дух обреченности, будто витавший как пороховой дым между строк, ел глаза и саднил горло.
Лист беспомощно лежал на столе, ожидая своей участи. Дмитрий, изучая бисер букв, в нерешимости взял перо, но возвратил его на место.
На следующий день перед завтраком он зашел к Милославскому в номер. Тот встретил его дружелюбно:
– Здравствуйте, господин Лебедев, милости прошу. – Хозяин номера указал гостю на кресло. – Я знаю, с какой целью пожаловали. Вы будете говорить о моих записях. – Он, сев удобнее, свел пальцы в замок.
– Совершенно верно.
– Переписали?
– Нет.
– Очень странно. – И Милославский удивленно посмотрел на Дмитрия. – А в чем причина?
– Прежде я желал бы задать вопрос. К сожалению, не решаясь его озвучить, испрашиваю дозволения…
– К чему высокий слог? Или тема щекотлива? Хорошо. Говорите. Я весь в вашем распоряжении.
– Господин Милославский, верите ли вы в то, о чем написали?
– Я вас не понимаю, – смутившись, произнес он.
– Верите ли вы…
– Ах, верю ли я? Нет, конечно, я знаю, что так и будет.
Последняя фраза была произнесена непринужденно, и тон ее покоробил Дмитрия. Что-то искусственное послышалось в ней, словно участвуешь в игре, правила которой надуманы.
– А я – нет. Я верю в победу человеческого разума, и…
– Ах, бросьте этот заученный урок. Меня, честно вам скажу, настораживает эта эйфория, этот елейный оптимизм. – И нотка раздражение взыграла в голосе.
Милославский скривил рот, будто надкусил горький плод.
– Но пессимизм идей…
– Погодите, господин Лебедев. – И собеседник поднялся с кресла. Подойдя к столу, он взял трость.
– Дело в том, – произнес Станислав Михайлович, садясь на место. – Вас очень привлекает моя трость.
– Не понимаю.
– Уже не первый раз, по-моему, второй, вы интересуетесь рукоятью.
– Голова черного пуделя?
– Именно. И я сейчас озвучу свой вопрос. – На слове «свой» он сделал акцент. – В зависимости от ответа, будет два исхода: мы пойдем вместе, или – шапочное знакомство таковым и останется. Ну, как?
– Хорошо. Задавайте вопрос.
– Когда вы смотрите на пуделя, что услужливая память сразу же преподносит?
– Ничего.
– А жаль. Я не знаю, верите ли вы в дьявола и бога так, как верю я. Ни как в некие отвлеченные обывательские понятия: будто есть битва добра и зла, а мы в стороне. Но бог и дьявол везде, в любой точке пространства и времени. Даже сейчас, когда мы беседуем. В то время как вы просыпаетесь в своей постели, они рядом, они внутри. Всякий день – глаза бога и дыхание дьявола. Слепые ропщут: а где был всевышний, почему он допустил сие? Но люди не знают: эта случилась одна из битв, в которой бог проиграл, но сколько их еще будет…
Станислав Михайлович, умолкнув, сел в кресло и подался вперед. Дмитрий ничего не ответил. Он был поражен не тирадой, а голосом собеседника. Вначале речь звучала вяло и бесцветно, но, набирая обороты, она сорвалась в рокочущее наводнение. Удивительно, Милославский не повысив тона, сумел придать упругость фразам. Это сродни пружине: чем сильнее сжимаешь, тем сильнее она сопротивляется.
Он, приставив трость к подлокотнику, резко поднялся. Встал у окна и произнес холодно:
– Вы свободны, господин Лебедев. Больше мы с вами не увидимся. И забудьте, о чем мы тут болтали.
– Я вас не понимаю, к чему эти загадки с тростью? – слегка раздражаясь, ответил Дмитрий. – Скажите прямо. – Однако человек у окна, плотно сжав губы, молчал. – Что ж, и к завтраку не выйдите?
– Выйду. Мы еще встретимся, но сегодня вы уедете и забудете обо мне.
Дмитрий вернулся в свой номер. Мысли бегали: «Текст? Причем здесь он? Какая связь? И трость? Черный пудель?» Ему не понравилась поступок Милославского: предложить переписать текст, проверяя человека на лояльность взглядов, изложенных в пессимистическом послании. Можно было б и не таким вычурным способом узнать мысли человека. Просто спросить, например.
Он вспомнил: Станислав Михайлович не обмолвился о листке, не просил вернуть его. «Все же чужая вещь, – решил Дмитрий, – надо возвратить». Достав из ящика стола, он спрятал лист во внутренний карман.
11
Перед завтраком Павел Аркадьевич произнес:
– Желаю всем приятного аппетита. Господин Милославский не выйдет. Начнем без него.
– Он вам сказал, что пропустит трапезу? – настороженно спросил Дмитрий.
– Что вы, господин Лебедев. Станислав Михайлович привык менять решения по нескольку раз на дню. Не удивляйтесь. – Он подоткнул салфетку. – И раз он не вышел, значит…
– А вдруг… – Дмитрий осекся, прислушиваясь к мыслям, ему показалось, одна из них всплыла в сознании, полная тревоги и дурных предчувствий, будто говоря: Милославский не случайно проигнорировал завтрак.
– Что вдруг? – Голос хозяина пансиона вывел из задумчивости.
– Да нет, пустое.
Дмитрий приступил к трапезе, но та мысль вновь, как острый осколок, царапнула мозг.
– Может, узнать, в чем дело?
– Хорошо, господин Лебедев. Удовлетворим любопытство.
Павел Аркадьевич отдал распоряжение слуге. Через несколько минут он возвратился, доложив, что дверь заперта, а господин Милославский не отвечает.
– Ну, так и думал, отдыхает, – спокойно ответил хозяин пансиона, – но я все ж поинтересуюсь.
– Я с вами.
– Нет, сидите, господин Лебедев. Я скоро вернусь. Это займет пару минут. Господа, прошу извинить меня…
– Я все ж пойду с вами.
– Хорошо, хорошо…
Они поднялись в номера.
Слуга, открыв дверь, впустил людей. Голос Павла Аркадьевича прозвучал на высоких нотах:
– Да что ж это такое!?
Милославский лежал на полу и не прореагировал на возгласы. Господин Кнехберг, припав на колени, схватил дрожащими пальцами его запястье. Отпустил руку. Она мягко ударилась о ворс ковра. Затем Павел Аркадьевич нащупал сонную артерию и облегченно выдохнул:
– Слава богу, живой.
Слуга сделал пару шагов в комнату и остановился. Дмитрий застыл в проеме, рука сама нашла опору: пальца впились в косяк. Никаких эмоций в душе, будто случилось не здесь и не с ним. Словно он спит и скоро проснется. Нет мыслей – белый лист, но вопрос, вырвавшийся на свободу, прозвучал чужим голосом:
– Что случилось?
– Господин Лебедев, покиньте номер, пожалуйста. Я все равно вам ничего не скажу определенного. Приведи врача. – Последняя реплика относилась к слуге.
Дмитрий вернулся в свой номер.
Он прокрутил в голове последний разговор с Милославским, и трость с рукоятью в форме головы черного пуделя опять всплыла в памяти.
– Господин Лебедев, – встревожено произнес хозяин пансиона.
Дмитрий не заметил, как тот вошел в комнату. Да и сколько минуло времени – неизвестно, но, увидев Павла Аркадьевича с тростью и голубым конвертом в руках, вымолвил:
– Да? Как он?
– Это был апоплексический удар. Слуги увезли его в город в ближайшую больницу. Но к господину Милославскому вернулось сознание еще в номере, и он, указав на стол, еле прошептал: «Конверт». Я взял его и прочитал, уж не осуждайте меня за это. Трость и письмо принадлежат вам.
Дмитрий, удивленно взяв конверт, извлек короткую записку:
«Уважаемый господин Лебедев, я приношу извинения. Я вел себя бестактно по отношению к вам. По сему, в знак будущих отношений примите трость. Какой сделаете вывод, воля ваша. Я буду ждать решения. Я не знаю, каковы причины поступка. Для чего я играл в тайну? Что подтолкнуло к витиеватости? Но для меня имеет вес ваше мнение. Почему? – На этот вопрос не отвечу. Я в растерянности. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не дорожил чужими словами. Так случилось, я шел по жизни, не касаясь людей. До сего дня.
С уважением, господин Милославский».
– Я бы хотел встретиться со Станиславом Михайловичем, – произнес Дмитрий, покончив с запиской.
– Но это не возможно. Во-первых, слуги еще не вернулись. На чем вы поедите, не знаю. Во-вторых, никто вас не пустит к нему в палату. Я уверен, что в ближайшее время запретят посещения.
– Я не о сегодняшнем дне говорю.
– Но зачем вам…
– Все дело в трости.
– Вы пугаете меня. Причем здесь это?
– Павел Аркадьевич, я вам все объясню, но позже.
12
Дмитрий вошел в одиночную палату. Запах стираного белья и лекарств ударил в нос. Придвинув ближе табурет к койке и сев, он произнес:
– Здравствуйте, господин Милославский. Врач сказал, у меня есть немного времени. Еще он поведал, что порой вы забываете людей и фамилии. Но вы меня узнали? Я Лебедев. – Дмитрий пристальнее взглянул на Станислава Михайловича. – Я понял ваш жест. Он символичен. Я о трости. И да, черный пудель. Как только в моей памяти возникло название истории, стало ясно. Лукавый дух явился впервые Фаусту в образе черного пуделя. Похоже, это написано у Гете. Но вы не Фауст и уж тем более не дьявол. Я не верю в это. А трость, что передана мне господином Кнехбергом, есть попытка дружбы. Ведь что есть данный предмет? – Палка, на которую опираются. Вам не нужен человек, разделяющий взгляды. Вам нужен спутник. Опора. Я так расценил жест. Не знаю, подойдет ли мне эта роль, но… Наверно, я сумбурен? Разболтался? А я шел сюда сказать, что верю в ваше выздоровление. И еще. Станислав Михайлович. Чем я могу помочь вам? Что сделать, не откладывая на завтра… – Он оборвал фразу. Ему показалось, искра разума мелькнула в уставших глазах Милославского.
– Дайте мне, Дмитрий, немножечко здоровья, – прозвучал сиплый голос.
Ад номер шесть
1
Этот день похож на вчерашний, и не отличается от предшествующего дня. И так до бесконечности. Вереница дней свинцовой цепью удаляется все дальше и дальше, пока не исчезает за гипотетическим горизонтом, который можно предположить где угодно. Лишь одно видится хорошо. Чем дальше по времени день, тем вернее он сливается с остальными. Те, что всех ближе к горизонту, как в тумане, как одна сплошная серая масса.
Будет опять оскверняемо солнце миллионом совокуплений во славу неведомой царицы. Говорят, что многие видели ее, но никто толком рассказать не может, как она выглядит. О, сколько восхищенных фраз, полных экстаза, слышали мы в адрес владычицы. Как красиво и сочно живописали ее образ, но никто даже не познал ее сути. Неуловимая личина витала в воздухе, и все в восхищении твердили: «Царица! Царица!» Как серый унылый дождь стали эти слова, ничего они не значат. Пустой звук. Только по вечерам, когда оскверненное солнце сползало за горизонт, утаскивая за собой еще один день, наступала головная боль. Ее не избыть, как и тяжесть в сердце. Иногда ты думаешь, что вчера она была легче, а сегодня чуть-чуть тяжелее. Словно невидимая рука подкладывает свинцовые гирьки в грудь, и тяжело становится таскать сердце в теле. Лучше б вырвать его, и все будет кончено.
Генри не раз говорил об этом, но я не обращал внимания на безумные слова. Все казалось бредом, да и внешность знакомого толкала к таким мыслям. Он смотрел пробитыми насквозь глазами, словно мертвец, восставший из могилы, словно ему нет покоя за кладбищенской оградой. Теперь же труп явился передо мной и полусгнившими губами тщится осязать слова, чтобы, в конце концов, составить предложения и поведать о хладе могильном, о сырой земле, о пустоте в голове и в области сердца. Но что тревожит умершего?
Генри ходил по улице и будто загребал костлявыми руками воздух. Я смотрел ему вслед, припоминая слова, сказанные им. Вот он рассуждает о мертвых чувствах, вот он опять уходит от меня и загребает костлявыми кистями воздух, словно цепляется за жизнь. Удивительно. Ему тридцать лет, но выглядел он на семьдесят. Я почти как он. Ну, может, моложе. Не суть важно. Вчера Генри возвратился с предприятия. Рабочий день шел двенадцать минут, но это предательское время, всегда ползущее убийственно медленно, могло доконать кого угодно. Генри был убит вчера этими минутами окончательно. Он вернулся изнеможденным и все говорил, говорил, говорил. Казалось, что только на речь ему и хватало сил. Он опять поведал о мертвых чувствах, затем пошел на площадь. Обещал вернуться. Да, это случилось вчера. И он сказал мне перед самым уходом: «Более так быть не может, эта работа, площадь, этот поганый город – все это пусть летит в тартарары».
Отвлекшись от воспоминаний, посмотрел в окно. На улицах, кажется, все вымерли, не смотря на то, что двигались прохожие, ездили автомобили, но все казалось мертвым. Город стоял на краю света и на краю времени.
Я представил себя неведомым животным, присосавшимся к окну, заколдованным пустотой. Наконец, преодолевая апатию, вышел из квартиры. Генри жил этажом ниже. Знал эту квартиру, но ни разу там не появлялся, да и зачем мне бывать в ней? Для чего? Нагрянуть гостем и увидеть такую же обстановку?
Я спустился, шаркая по ступеням и буквально проползая кусок пустоты. Встретилась пьяная девка – существо непонятного рода, лишенное человеческого обличия. От нее за километр разило миазмами. Прослезился. Не из жалости, конечно, а от зловония. Два лестничных пролета преодолены. Никто не попался на встречу кроме нее. Вообще на лестницах тихо, все как будто вымерли.
Я подошел к двери и увидел, что нижняя часть ее испачкана грязью. Проходивший мимо озорник не из злости, а от тяжести сердечной пинал все двери, что попадались ему на пути. Были случаи, и дверь поддавалась, распахиваясь перед нежданным гостем, но он не думал проникать в квартиру. Лишь хотел пнуть дверь и уйти. В девяноста девяти случаях из ста хозяин оказывался дома, и тогда озорник в нагрузку к своей сердечной тяжести получал еще и зуботычину. Тем и заканчивалось приключение.
Я не собирался на этот раз пинать дверь, а постучал. Звонка не было, от него остались два проводка. Где он теперь не ведал даже сам хозяин, которому уже все по барабану. Дверь не открыли. Стукнул еще, но с большей силой. Опять тот же результат. Удар раскатисто прокатился и замер в углах комнаты. Прошла минута. Время длилось неимоверно медленно. Генри не подходил и не открывал двери. Он был там. Сам говорил, что вернется, а теперь еще не желает открывать. Время истекло. Терпение лопнуло. Я попытался припомнить весь прошедший день. Он не хотел собираться воедино. День исчезал на глазах, рассыпался, раскалывался на миллионы мельчайших кусков. Короче, он делал все, что угодно, но только не складывался в единую картину. Ну, и черт с ним!
Собрав сердечную тяжесть, изо всех сил ударил ногой в дверь. Что-то звякнуло, а потом загремело металлически. Дверь лишь на пядь приоткрылась. Глянул в эту зияющую брешь. Тихо. Защелка, на которую была закрыта дверь, не выдержала удара ноги. Это она звякнула. Я боялся войти, но потом – шаг, другой, третий, прошел в зал и остановился. Генри лежал в круге посреди зала. Мгновение не понимал, что происходит, а потом, приглядевшись, увидел его мертвым в луже крови. Рука Генри сжимала пистолет. Что ж самоубийство – обычное дело в наших краях. Обошел труп, присел на корточки и стал рассматривать мертвеца.
Затем решил вызвать скорую помощь и полицию. Я вспомнил зловонную барышню. Нет, если Генри будет разлагаться, то пусть его забирают отсюда. Чтобы подъезд стал еще зловонней, этого не следовало допускать.
Подошел к телефону, что находился в прихожей.
2
Далеко отсюда, от этого дома, от этой квартиры, где лежит остывшее тело Генри, едут машины. Они движутся с разных сторон медленно. Спешка здесь неуместна. Необходимо приехать в пункт назначения, зафиксировать случай, отвести труп в морг – обычная текучка. Машины не беспокоят омертвевший город. Их шины тихо шуршат по мостовой, а мягкий гул двигателей почти не слышен. Если исключить их звуки, то в городе тихо. День умер. Огромное солнце, налившись алым цветом, словно какое-то чудовищное кровососущее насекомое, медленно переваливаясь, ползет к горизонту. На востоке уже ночь. Воздух тих и безмолвен. Мертвящая стерильность витает вокруг. Полиция и скорая преодолевают разный по протяженности путь, но прибывают одновременно к дому, будто уже много раз отрабатывали этот трюк. Сотрудники обоих служб поднимаются по лестнице, видят открытую дверь, входят внутрь.
– Вы звонили? – спрашивает полицейский.
Лицо мое осунулось, оно сонное и усталое то ли от работы, то ли от нежелания говорить.
– Да, я.
– Майкл? Верно?
– Да, верно.
Я внимательно рассматриваю лицо человека и осознаю, что вопросы, заданные выше не нужны. Полицейский знает все: эта та самая квартира, где обнаружен труп, который, когда он был живым, звали Генри, а этого человека зовут Майклом. Я вижу, как работники скорой проходят в зал и встают рядом с телом. Никаких действий они не совершают, чего-то ждут. Полицейский, осмотревшись, проходит в зал, я следую за ним. Итак, в комнате находятся четыре человека: двое работников скорой, один полицейский (он составляет протокол) и я. Если считать Генри, то пять. Полицейский будто б совершает шаманский танец вокруг тела. Он обходит его по часовой стрелке, а потом наоборот, наклоняется над ним, даже один раз припадает на левое колено, чтоб увидеть огнестрельное.
– Интересно, – задумчиво произносит полицейский. – Три пулевых отверстия. Два находятся в области сердца и одно – в голове, какой настойчивый. Аж три раза выстрелил, чтоб наверняка.
Работники скорой тоже осматривают труп, составляют медицинское заключение.
– Похоже, все, – говорит представитель правоохранительных органов, обращаясь к человеку в белом халате. – Приступайте.
Врач садится перед Генри на колени, закатывает штанину брюк, спускает к щиколотке носок и массирует икру. В его свободной руке появляется скальпель. Врач натягивает кожу и делает надрез вдоль икры, лезвие проникает в образовавшуюся рану, осторожные движения ножа извлекают на свет знакомый предмет. Это электронный чип. Маячок. Личность Генри определена. Запоминающее устройство оказывается целым и с него можно снять информацию. Труп укладывают на носилки.
– Возьмете заключение о смерти? – спрашивает врач.
– Не надо, – отвечает полицейский. – У нас есть чип, этого хватит.
Труп выносят. Полицейский говорит, чтоб я следовал за ним. Оглядываюсь. Не забыл ли я здесь что-нибудь из своих вещей? Мне почему-то приходит в голову такая мысль. Но нет, этого не может быть. Следую за полицейским. Он садится вместе со мной в скорую. Машина едет, пассажиров немного покачивает, наклоняет на поворотах. Полицейский достает бланк протокола и зачем-то допрашивает меня.
3
Что я могу сказать о Генри? Странный вопрос. Он здесь не уместен. Да, жили рядом, ну и что? Конечно, друг друга мы знали, а то, что иногда перекидывались парой слов, так это ни о чем не говорит. Это не дружба. Болтал в основном Генри, он жаловался на усталость, на старческое недомогание в тридцать лет, на увеличивающуюся тяжесть в области сердца. Его речи можно ли принимать всерьез? Это тоже неуместный вопрос. В этом городишке, что находится черт, знает где, такое у всех.
Телом и душой, вычерпав до самого дна всю воду удовольствий, медленно умираешь. Наступает пустыня с сухим раскаленным воздухом, но ни неба, ни земли нет в ней, только пустота. Вот, что мог поведать я полицейскому о Генри, а это то же, что и ничего.
Мы ехали по вымершему городу. Солнце скрылось, но его кровавый след остался на западе. Поздним вечером наступает то время, когда жители прячутся по домам. А когда приходит ночь, суеверные люди подземелий болтают, что над городом витает дух Антихриста, но это лишь легенда. Да и самих людей подземелий я не встречал, может, и они тоже вымысел.
Когда вышел из машины, увидел, что мы остановились у больницы. Предстояла беседа с врачом. Он спрашивал то же, что и полицейский. Мне это надоело. Ладно, хоть один раз, а то уже второй. Неужели нельзя это выведать у полиции? Но врач не хотел ничего знать, ему были нипочем мои настойчивые просьбы прекратить допрос. Врач выслушал со вниманием. Он в основном молчал, кивал головой. Что-то нереальное было в этом качании. Я думал, что работник скорой не скажет более. Он зафиксирует письменно рассказ мой и отпустит, но нет. Врач все записал и поведал, что причина физической смерти ему ясна, но вот в чем заключаются психологические корни? Тут у меня почему-то задвоилось в глазах. Ручка в пальцах работника скорой размножилась: их стало две. Врач внимательно посмотрел, будто заметил мой недуг, но после паузы продолжил говорить. Я даже, словом не обмолвился о раздвоении в глазах и о том, что я плохо себя чувствую, хотя по моему лицу, похоже, было видно.
Врач произнес, что нужно найти психологическую причину самоубийства. Это важно. Я не думал об этом, мне нет дела до мертвого тела. Генри не воскреснет, даже если медицина поставит все точки над «i» в заключение о смерти.
Врач намекнул, что, возможно, в квартире покойного найдутся записи. Записи? Какие к черту записи?! Это разозлило меня. Работник скорой попросил успокоиться и, наконец, сказал напутствие: «Вы должны войти в квартиру и порыться в личных вещах Генри». Что ж, можно сделать. «Но почему этим не занимается полиция? – спросил я сам себя, – Иль ей плевать?»
Когда добрался на такси до дома, то сразу решил заглянуть в квартиру Генри. Дверь оказалась аккуратно прикрытой. Толкнул ее, затем прошел в зал и увидел пятно крови. Неужели это случилось? Нет, Генри – это просто дурной сон. С такой мыслью легче смириться. Я взял ее на вооружение и со спокойной душой прошел в другую комнату. Встав перед столом, не особо соображал, что нужно делать. Врач говорил о каких-то записях. Я бессистемно стал открывать ящики. То один выдвину, то другой. В основном они пустые. Казалось, что оттуда вылетал запах нежилого помещения, будто ящиками давно не пользовались. Наконец сообразил: некоторые из них я открывал по много раз. Сделал паузу. Затем наугад дернул ящик. Там лежали какие-то бумаги. Стал разглядывать их. Все в ящике перемешалось. Попались чистые листы, листы, исписанные убористым почерком, встретились и документы: паспорт, свидетельство о рождении. Последнее отложил в сторону и направил свое внимание на бумаги. Стал разглядывать рукописный текст. Подчерк с трудом, но все же разбирал. Потом увидел, что листы снизу пронумерованы. Тогда, разложив их по порядку, рассмотрел каждый лист в отдельности. Они желтые, и, насколько можно судить, подчерк не принадлежал Генри. Рукопись не его, но как она попала сюда? Я отбросил этот вопрос. Взял первый лист. Кроме названия там ничего не было. Оно не несло информации: «Ад номер шесть». Далее шел текст.