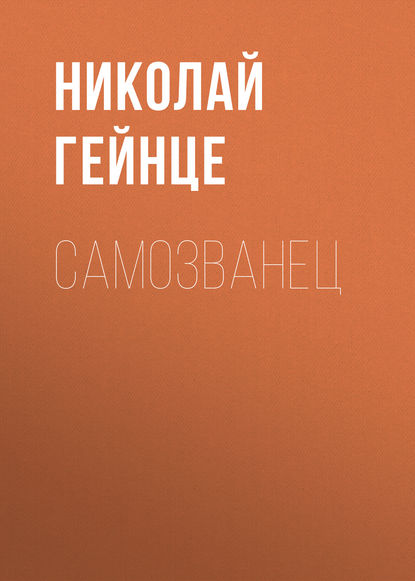полная версия
полная версияГерой конца века
– Никак нет-с, пришел…
– Устал?
– Нет-с, с чего устать, близко.
– Это с Николаевской-то?
– С Невского…
Вопросом о том, приехал ли Алфимов или пришел Аркадий Александрович допекал его при каждом его появлении в своем кабинете.
– Садись… – Колесин указал на стоявший перед диваном низенький пуф.
– Я к вам по делу, может могу вам устроить то, о чем намедни вы говорить изволили… насчет Савина, Николая Герасимовича…
– Мне говорил Евграф… что же ты придумал?..
– Казусное, скажу, вышло дельце… Дозвольте маленько сообразить…
– Ну, соображай…
Корнилий Потапович замолчал, видимо, что-то усиленно обдумывая.
XXI
Договор
Алфимов молчал.
Аркадий Александрович нетерпеливо теребил кисти халата.
– Надумался… говори же… – не вытерпел наконец он.
– Вам желательно было бы этого самого Савина из Петербурга удалить?
– Желательно, очень… Да он, говорят, сам скоро уезжает…
– Временно, но ведь опять вернется?
– Ну, конечно…
– А вам бы желательно, чтобы он не вернулся, а если вернется, чтобы его сейчас же бы и попросили о выезде…
– Это бы хорошо… Да кто же это может сделать?
– Чего-с?
– Попросить о выезде…
– Начальство.
– Начальство?
– Доподлинно только начальство.
– Но как же этого достигнуть?
– Вот об этом я с вами, Аркадий Александрович, и пришел погуторить…
– Говори…
– И вам ведь доподлинно известно, что господин Савин у городского-то начальства куда на каком дурном счету… Скандалист он, безобразник, только за последнее время несколько поутих…
– Знаю, конечно, знаю…
– Ну, вот, в том-то и дело… По службе он офицер, гражданскому-то начальству с ним справиться нельзя, однако, все его «штучки» где следует прописаны… но за это-то время, как он притих, конечно, позабыты… Теперь же, не нынче завтра он в отставку выйдет, городскому начальству подчинен будет, как все мы, грешные… Ежели теперь бы найти поступок, хоть самый наималейший, все бы можно и прошлые со дна достать, да и выложить… Так то-с…
– Но ведь ты говоришь, что он теперь притих… Я и сам слышал, что неузнаваем стал, точно переродился…
– Верно, верно, это вы правильно…
– Где же ты поступок-то возьмешь, коли его нет, да и как взглянуть, может старое-то перетряхать не станут… Исправился, скажут, человек, ну и Бог с ним…
– Эх, Аркадий Александрович, умный, обстоятельный вы барин, а простого дела не знаете, вся ведь сила у начальства в докладе…
– В докладе?.. – вопросительно повторил Колесин.
– Точно так, Аркадий Александрович, как доложат главному начальству; коли справочки о прошлом припустят, они и пригодятся и для настоящего… справочки-то.
– Однако и дока же ты, Корнилий Потапович… – лениво сквозь зубы уронил Колесин. – Ну, положим ты прав, а поступок-то где взять, настоящий, к которому бы пригодились твои справочки?..
– Поступок есть…
– Есть?
– Дозвольте рассказать все спервоначала?
– Рассказывай.
Корнилий Потапович начал обстоятельный рассказ о векселе Мардарьева, не утаив и его происхождения, и как он очутился в руках Вадима Григорьевича, передал о визите последнего к Савину и поступке с ним этого последнего, то есть разорванного векселя, клочки которого Мардарьев сумел сохранить, и насилия над Вадимом Григорьевичем.
– Вот-те и поступочек, – сказал в заключение Алфимов.
– Пожалуй, что и так, – после некоторого раздумья заметил Колесин. – Но тогда Мардарьеву надо идти в суд, к прокурору.
– Можно, конечно, и таким путем. Только проволочки больше… Когда еще решение-то выйдет, а Савина-то и след простынет. Потом, на уголовном-то суде, с присяжными, сами знаете, и не такие казусы с рук сходят, вы вот сами по жизненному-то, не по закону сказали: «Он в своем праве». Наказать его, пожалуй, и не накажут, а иск гражданский-то, конечно, признают за Мардарьевым, да только исполнительные листы нынче бумага нестоящая, ищи ответчика-то, как журавля в небе…
Корнилий Потапович остановился.
– Так что же ты придумал? – спросил Аркадий Александрович.
– Индо жалость меня взяла к этому человеку, Мардарьеву-то, начал я мозговать, как бы его горю помочь, да и вспомнил о вас, Аркадий Александрович.
– Обо мне?
– Об вас: припомнил я, что вы десяти тысяч не пожалеете, чтобы этого самого Савина из Петербурга удалить… Дело, думаю, подходящее, то я у Мардарьева за четыре тысячи куплю, прошенье его куда следует написать заставлю, тысяченку еще не пожалеете, Аркадий Александрович, на расходы, дельце-то мы и оборудуем. Поступок есть, справочки припутаем, ан высылка-то из Петербурга отставного корнета Савина и готова.
– Ой ли?.. – отозвался Колесин. – Что-то мне не верится, чтобы это осуществилось.
– Уж будьте покойны, я зря на ветер слов не бросаю, сами, чай, знаете; коли говорю, что дело оборудую, так уж не сумлевайтесь, в лучшем виде сделано будет…
– Знаю я тебя, верю…
– То-то же, только за деньгами не стойте… Всего ведь за половину обходится… Хотели десять дать, ан всего пять понадобится.
– Да может Мардарьев этот и уступит наполовину… вексель-то… – в раздумьи сказал Аркадий Александрович.
– Уступит отчего не уступить, только ведь последние у него деньги-то… По-человечески-то торговаться жаль… Человек-то больно несчастный, кругом обиженный…
– С чего это ты вдруг зажалел его? Я за тобой этой самой любви к человечеству не знал… Нажить сам сильно хочешь…
– Видит Бог, нет-с, не обижайте… А потому лишь, что этого Вадима Григорьевича давно знаю, работящий, достойный жалости человек… В газетках пописывает, и мне и вам пригодиться может, так обижать бы его не хотелось.
– Гм… – крякнул Колесин.
– Впрочем, как вам угодно, коли не доверяете, так и разговор кончен… Помогу ему, судебным порядком пойдет…
Алфимов встал.
– Прощенья просим…
– Куда, куда ты? – заторопился и даже привскочил на диване Аркадий Александрович. – Ишь какой обидчивый, слова сказать нельзя, как порох…
– Слово слову рознь, Аркадий Александрович, а иное ножом человека полоснет по сердцу… Все дела веду на доверии… Сколько годов с вами знаком и, кажись, ни в чем не замечен… и вдруг…
– Сиди, сиди, я пошутил… Верю я тебе, верю, всегда верю… Только вот денег-то у меня теперь свободных, как на зло, нет…
– Деньги что, деньги у Алфимыча есть, все равно что ваши… Вот подмахните векселек…
Корнилий Потапович вынул объемистый, когда-то желтой кожи, страшно засаленный бумажник и вынул оттуда вексельный бланк.
– На какой срок?
– Да месяца на три…
– На три?.. Двести пятьдесят, да двести пятьдесят, да еще двести пятьдесят… Итого семьсот пятьдесят, а для ровного счета, да вексельная бумага, пишите на пять тысяч восемьсот, и дело в шляпе…
– Уж и проценты же ты берешь, Корнилий Потапович, даже жидовскими нельзя назвать… И те меньше цапают…
– Процент; Аркадий Александрович, цена деньгам, а деньги товар… Я этим товаром торгую, значит мне и цену на него назначать… Коли покупатель согласен – по рукам, а коли нет – его воля… Тоже мы насильно денег никому в карман не кладем…. Сами просят… Да и что вам, Аркадий Александрович, лишний процент, нам бы лишь оборотного капитала не ко времени не вынимать, до дела подождать, а дело наклюнется, загребайте деньги лопатой…
– Оно так-то так, но все-таки… Сбавочку хоть по знакомству давнишнему сделать бы надо…
– По знакомству я вас, Аркадий Александрович, вот как уважаю и ценю, а процент изменить не могу, в этом деле коммерция, пословица недаром молвит: «Дружба дружбой, а деньгам счет».
– Счет-то у тебя аптекарский. Ну, да давай, напишу вексель, а то ты опять обидишься.
Колесин встал с дивана, взял вексельный бланк, подошел к письменному столу и стал писать.
Корнилий Потапович сидел молча и совершенно бесстрастно.
– На, получай, – сказал Аркадий Александрович, просушив написанный вексель на пропускной бумаге и подходя с ним в руках к Алфимову.
Последний взял вексель, встал, подошел к стоявшей на столе лампе, внимательно прочел его и, бережно сложив, положил в вынутый им из кармана бумажник, который снова опустил в карман.
– Значит с Богом и начнем?..
– Начинай… Оборудуй, благодетель, век не забуду, – сказал Колесин. – Значит так будет сделано, что раз он уедет, сюда ему назад носа показать будет нельзя. Шабаш?..
– Шабаш.
– Это хорошо, это-то и надобно. Валяй, Алфимыч, валяй.
– Рад стараться.
Корнилий Потапович откланялся, вернулся в комнату Евграфа Евграфовича, сунул ему красненькую для крестницы и, провожаемый всякими благопожеланиями последнего, вышел из ворот Колесинского дома. Он не заметил, как прошел громадное расстояние от своего дома до Николаевской улицы.
Голова его была полна вычислениями, результатом которых Алфимов был очень доволен. По его соображению, он нажил по делу Мардарьевского векселя более пяти тысяч рублей.
«Хорошее дельце! Хорошее дельце!» – шептал он про себя.
XXII
У домашнего очага
Квартирка Вадима Григорьевича Мардарьева или, лучше сказать, жены его Софьи Александровны, состояла из двух маленьких комнат и передней, служившей вместе и кухней.
Меблировка была убога: в первой комнате стоял старинный диван с деревянной когда-то полированной спинкой и мягким сиденьем, крытым красным кумачом, несколько стульев, простой большой деревянный стол у стены и окна справа и раскрытый ломберный, с ободранным сукном, покрытый газетной бумагой, у окна, находящегося прямо от входа.
На диване спал Вадим Григорьевич, а на стоявшем налево в углу сундуке, покрытом матрасом с кожаной подушкой – сын Софьи Александровны – Вася.
Сама Мардарьева помещалась с дочерью во второй узенькой комнатке – с одним окном, служившей им спальней, работала же она у большого стола, тогда как ломберный служил для письменных занятий Мардарьева, на что указывал пузырек с чернилами, брошенная деревянная красная ручка с пером и разбросанная бумага.
Софья Александровна будто и не заметила прихода своего мужа, и лишь маленькая Лида произнесла «папа», но замолчала под строгим взглядом своей матери, и таким образом в самом начале была остановлена в проявлении своих дочерних чувств.
Софье Александровне Мардарьевой было лет за тридцать, но трудовая жизнь положила на нее отпечаток той суровой сдержанности, которая старит женщину более, нежели лета. Можно было безошибочно сказать, что в молодости она была очень красива и эта красота сохранилась бы и до сих пор при других условиях жизни, но горе и разочарование избороздили ее лицо с правильными, хотя и крупными, но симпатичными чертами, и высокий лоб преждевременными морщинами, которые являются смертным приговором для внешности настоящей блондинки, каковой была Софья Александровна Мардарьева.
Когда-то темно-синие большие глаза выцвели от слез, и теперь эти глаза были безжизненно белесоватые.
Роскошная лет десять тому назад коса вылезла и маленьким жиденьким пучком была свернута на затылке.
Она была одета в чистое ситцевое серое клетчатое платье с блузкой, которая скрывала ее когда-то стройную фигуру. Девочка была худенькая и маленькая брюнетка, видимо, в отца.
– Сонь, а Сонь… – произнес после довольно продолжительного молчания Вадим Григорьевич.
– Чего тебе? – не поворачивая головы от шитья, как бы нехотя отвечала Софья Александровна.
– А дело-то с векселем Семиладова – дрянь, совсем дрянь.
– А мне-то что… Не мой это вексель, не мои и деньги, тебе ведь заплачено.
– Да ты мне не жена что ли… – упавшим голосом произнес Вадим Григорьевич. – Вечно я слышу только от тебя один попрек – заплачено… Целый день высунув язык бегаю, как бы дельце какое оборудовать, денег заработать… все ведь, чай, для тебя, да для детей.
– Не видим мы что-то твоих денег… Если что и наживешь ненароком, или из редакции получишь, в трактире оставишь.
– Какие же это деньги, это гроши.
– Из грошей рубли скалачивают.
– Нет, это не по мне, не могу… Натура широкая… Погоди, Сонь, еще будем мы богаты.
– Слыхали мы болтовню-то эту, уши вянут. Вон Гордеев, тоже комиссионерничал, как и ты, а теперь, сегодня встретила на своей лошади в пролетке.
– Он вдову нашел.
– Там вдову не вдову, а в люди вышел, едет он, а впереди меня генерал идет, так он с генералом-то этим раскланивается, а тот ему эдак под козырек, честь честью.
– Проныра.
– На вашем месте только проныры и могут кормиться, а не такие, как ты ротозеи да губошлепы… – отвечала Софья Александровна.
В голосе ее слышалось нескрываемое презрение.
– Погоди, Сонь, погоди.
– Чего годить, гожу, больше двенадцати лет гожу.
– Только вот насчет векселя-то Семиладова дело, говорю, дрянь.
Софья Александровна тем временем овладела собой и молчала.
– Алфимов сто рублей дает.
– Давал, – поправила Мардарьева.
– Нет, теперь дает, прах его знает почему, а дает за склеенный. Надо будет склеить, все равно и сто рублей лучше, чем ничего.
– Зачем же он ему понадобился?
– Говорю, прах его знает… Да вот что, ты баба умная, может рассудишь, я тебе все по порядку расскажу… Рассказать?
– Да говори, ну тебя! – кивнула Софья Александровна, принимаясь снова за работу.
Вадим Григорьевич откашлялся и обстоятельно, шаг за шагом, не пропуская ни одной самой ничтожной подробности, рассказал Софье Александровне все происшедшее с ним за сегодняшний день: визит к Савину, разорвание векселя, полет из номера Европейской гостиницы, беседу с Корнилием Потаповичем и, наконец, предложение последнего за склеенный вексель и прошение заплатить ему завтра утром сто рублей.
– Поняла ты что-нибудь из всего этого? – спросил Вадим Григорьевич жену, окончив рассказ.
– Поняла… – отвечала та.
– Что же ты поняла? – вытаращил на нее глаза Мардарьев.
– А то, что Алфимов плут, а ты – дурак.
– Рассудила, нечего сказать… Первое я и без тебя знаю… а второе…
– Второе я давно знаю… – перебила Софья Александровна. – Да что толковать… склей вексель-то, напиши и подпиши прошение, а я завтра сама к этому «алхимику» пойду.
– Ты?
– Да, я, увидим, чья возьмет… Поверь моему слову, я тебе никогда не лгала, что завтра ты двести рублей от меня получишь, сиди дома и жди.
– Ой ли!
– То-то ой ли.
– Пожалуй, что и так… Потому, если насесть на него, он двести рублей даст… Характеру-то у меня только нет.
– Дурак!
– Опять… Заладила, точно попугай… Может я не хочу тебя в это дело вмешивать.
– Дважды дурак… – хладнокровно отрезала Софья Александровна.
– Хорошо, будь по-твоему… Только чтобы мне двести целиком. Я сам уж тебе дам… Экипироваться надо – обносился.
– Сказано из рук в руки отдам… Чего тут – экипируйся на здоровье, да только одежду не пропей.
– Видит Бог.
Придя к такому соглашению, супруги занялись каждый своим делом.
Софья Александровна зажгла, так как уже начало смеркаться, висевшую над большим столом висячую лампу, одну из тех, которые бывают обыкновенно в портновских мастерских. Лампа осветила всю комнату и при свете ее можно было не только шить за большим столом, но и писать за ломберным, где и поместился Вадим Григорьевич клеить вексель и писать прошение.
Вечер пролетел незаметно. Напились чаю, рано отужинали и легли спать. Вадиму Григорьевичу не спалось, он долго ворочался на своем диване.
На другой день еще задолго до девяти часов утра Корнилий Потапович Алфимов пришел в известный нам низок трактира на Невском.
Проходя по еще пустым комнатам в свой кабинет, он спросил у полового:
– Никто не спрашивал?
– Никто-с.
– Мардарьев не был?
– Никак нет-с.
Войдя в кабинет, он сел на свое обычное место и принялся за поданный ему вчерашний разогретый чай.
Во всех его движениях заметно было нетерпеливое ожидание. Он то и дело смотрел на свою луковицу. Наконец стрелка часов стала уже показывать четверть десятого.
– Что бы это могло значить? – уже вслух произнес Алфимов. В это время половой осторожно отворил дверь кабинета и взглянул в нее.
– Лезь, лезь… – по привычке произнес Корнилий Потапович.
– Там вас женщина какая-то видеть желает.
– Какая такая женщина?
– Не могу знать.
– Пусть лезет.
Половой отворил дверь и пропустил Софью Александровну Мардарьеву, одетую не только довольно чисто, но с претензией на моду. Алфимов уставился на нее своими бегающими глазами.
– Что вам угодно?
– Я Мардарьева, жена Вадима Григорьевича.
– А-а… садитесь. Что же он сам?
– Захворал… Вчера вечером еще здоров был, а сегодня утром головы от подушки поднять не может.
– Вот оно что; бывает, бывает… – покачал головой Алфимов.
– Он вчера склеил вексель, потом подписал прошение, как вы желали, вот и прислал меня с ними к вам.
– Тэк-с… Сам подписал?
– Все прошение его рукою написано.
– Тэк-с… Хоть и не порядок, но ради болезни… Извольте получить деньги. Пожалуйте прошение и документ.
Корнилий Потапович полез в карман сюртука, вытащил бумажник и из объемистой пачки радужных отделил и вынул одну.
– Вам известна сумма – сто.
– Нет, мой муж на это согласиться не может, да и я. Это невозможно.
– Что же… Так зачем же вы пришли? Я ему вчера сказал, не хочет, как хочет.
– Да он меня просил все же зайти вас уведомить, а впрочем, если так, извините за беспокойство.
Мардарьева встала. Все это до того поразило Корнилия Потаповича, что он уронил раскрытый бумажник на стол и сидел, держа в руках радужную.
– Куда же вы, посидите, потолкуем.
– Что же толковать, когда вы говорите: «Не хочет – как хочет». Он не хочет, а главное я не хочу… – продолжая стоять, сказала Софья Александровна.
– Вот оно что… – вслух произнес Алфимов и пристально посмотрел на Мардарьеву. – «Кремень-баба», – пронеслось в его голове вчерашнее определение ее мужем.
Все устроенное им вчера дельце разрушилось, натолкнувшись на этот кремень. Тысячная нажива улыбалась. Приходилось поступиться доходом.
«И зачем я вчера с ним не кончил!..» – пронеслось в уме Корнилия Потаповича.
– Все же садитесь, пожалуйста!.. – вслух обратился он к Мардарьевой.
Та, как бы нехотя, села.
XXIII
«Кремень-баба»
– Так сколько же ваш муж, или собственно вы, хотите с меня взять за этот ничего не стоящий вексель?.. – спросил после некоторой паузы Софью Александровну Корнилий Потапович.
– Если он ничего не стоит, то за него и взять ничего нельзя, так как ничего и не дадут, а если дают, значит он что-нибудь да стоит, а потому и торговаться можно, – отвечала та.
– Правильно, сударыня, рассуждать изволите, правильно… Только может я просто по доброте сердечной мужу вашему помочь пожелал, а векселя мне его и даром не надо, пусть он при нем и остается.
– Ну, в этом-то позвольте мне усомниться, не из таких вы людей, чтобы даром сотнями швырять стали… Не так вы глупы, чтобы это делать, и не так глупа я, чтобы этому поверить…
– И это верно, сударыня, что верно, то верно, видно у нас с вами по пословице: «Нашла коса на камень».
– Кажется…
– Ну, так и будем разговаривать по-хорошему… Чайку не хотите ли, прикажу подать чашечку… Чай хороший, крепкий…
– Благодарствуйте, пила.
– Что же – чай на чай не палка на палку…
– Не люблю я его…
– Чай, кофейничаете?
– Балуюсь…
– Тэк-с…
Корнилий Потапович как бы чувствовал перед собой силу, почти равную, и потому медлил приступить к решительному разговору. Он положил обратно радужную в бумажник, тщательно запрятал его в карман, долил из чайника водой недопитый стакан, взял в руки огрызок сахару и тогда только нерешительно спросил:
– А сколько вы примерно с меня за этот вексель хотите?
– Две тысячи… – не сморгнув глазом, отвечала Софья Александровна.
– Две… тысячи!.. – как-то выкрикнул Корнилий Потапович, точно громом пораженный этой цифрой, и даже выронил из руки огрызок сахару, который упал в стакан с чаем и, ввиду его крайне незначительной величины, быстро растаял.
Алфимов бросился было его вынимать, но опустив два пальца правой руки в стакан, толкнул стакан и пролил чай на сомнительной белизны скатерть.
– Ох, и напугала же ты меня, мать, – заговорил он, вдруг переходя на ты, – я думал, что разговариваю с обстоятельной женщиной, а ты, вишь, какая неладная.
Корнилий Потапович поднял стакан, спасая остатки драгоценной влаги.
– Чем же я неладная? – спросила с усмешкой Мардарьева.
– Как же ты не неладная, такую сумму выговорить, и за что, спрашивается?.. Тебе, видно, муженек-то твой не передавал, какой это вексель… опороченный…
– Знаю, все знаю, только не в векселе тут дело, а в прошении… Видно, понадобилось кому-нибудь досадить Савину, не для себя вы тут хлопочете…
– Ин, будь по-твоему, угадала, что с тобой поделаешь… Умна, бестия. Только ты рассуди, кто же за это две тысячи даст?..
– Могут дать и больше, как кому надо.
– Да ведь ты не знаешь кому надо…
– Не знаю… Вы зато знаете… Вам, значит, и надо…
– Тэк-с, и это правильно. Только уж и запросила ты… Мужу твоему я говорил вчера, что аппетит у него волчий… А ты уж, мать, совсем тигра лютая…
– Да ведь и вы не овца, вас не задерешь…
– Овца, не овца, однако же, задрать ты меня норовишь…
– Ничуть, клочок шерсти ухватить норовлю, да ничего, обрастете.
– Шутница… – несколько успокоившись, сказал Корнилий Потапович. – Нет, ты говори сколько, по-божески?..
– Я сказала.
– Заладила ворона про Якова, одно про всякого… Я тебе говорю, как по-божески…
– Да ваша-то какая цена?..
– Я свою цену еще вчера твоему мужу объявил, ну, для тебя, уж больно ты умна да догадлива, еще столько же добавлю: две сотенных.
– Нет, это не подойдет…
– Не подойдет?.. – удивился Алфимов.
– Нет и разговаривать нечего…
Я пойду. Софья Александровна поднялась со стула.
– Сиди, сиди, куда тебя несет, вот стрекоза, прости, Господи!..
– Чего же так сидеть зря, у меня дома дело есть – работа.
– Не медведь дело, не убежит в лес… хе, хе, хе… – засмеялся своей собственной остроте Корнилий Потапович.
Мардарьева оставалась серьезно-спокойной.
– Так не подойдет?.. – спросил он полушутя, полусерьезно.
– Сказала не подойдет… – отвечала та.
– И уступки не будет?
– Отчего не уступить, коли скажете настоящую цену…
– Цену… цену… – проворчал Алфимов. – Да чему цену-то… Где товар?
– Товар есть, коли двести рублей уже за него давали.
– Ну, баба! – воскликнул Корнилий Потапович. – «Кремень-баба», – снова пронеслось в его уме определение Вадима Григорьевича.
– Что ж что баба, а умней другого мужика… – невозмутимо заметила Софья Александровна.
– Вижу, вижу! – со вздохом произнес Алфимов.
– То-то же…
– Ну, триста…
– Нет… Вот уж как, чтобы много не разговаривать, тысячу пятьсот рублей, по рукам…
– Полторы тысячи? – простонал Корнилий Потапович.
– Ни копейки меньше… А то я сейчас отсюда к Савину…
– Зачем это?
– Расскажу ему, что есть люди, которые дают триста рублей за жалобу на него… Поверьте, что он мне за эту услугу и вексель перепишет, да еще благодарен будет… Пусть сам дознается, кто против него за вашей спиной действует… Вот что.
– Тэк-с… – окончательно сбитый с позиции, протянул Алфимов.
Так хорошо только вчера устроенное дельце окончательно проваливалось. Эта шалая баба способна привести свою угрозу в исполнение, и кто знает, быть может, Николай Герасимович действительно допытывается, откуда идут против него подкопы. Ему, конечно, известно, что Колесин спит и видит устранить его со своей дороги к сердцу этой танцорки Гранпа – это первое придет ему в голову, и он будет на настоящем пути к открытию истины. Тогда прощай крупная нажива, прощай и даром сунутая Евграфу Евграфовичу красненькая… Ее почему-то особенно жалко стало Корнилию Потаповичу, и с ней мысли его перенеслись на растаявший из-за этой «кремень-бабы» кусок сахара и разлитый стакан чаю…
«Сколько убытков! Сколько потерь!» – мысленно воскликнул Корнилий Потапович.
Он взглянул исподлобья на Софью Александровну. Она сидела перед ним серьезная, спокойная и крупные складки на ее высоком лбу указывали на ее решимость сделать именно так, как она говорит.
«Надо во что бы то ни стало купить у нее этот вексель! Но надо все же что-нибудь выторговать!» – промелькнуло в уме Алфимова.
– Ваш супруг… – вкрадчиво начал он, – за него в неразорванном виде просил у меня тысячу рублей…
– Дуракам, сами знаете, закон не писан, – прервала его Мардарьева.
– Оно так-с, так-с, – согласился Алфимов, – однако я могу его купить за тысячу рублей цельным… а теперь по справедливости вы можете взять за него половину – пятьсот…