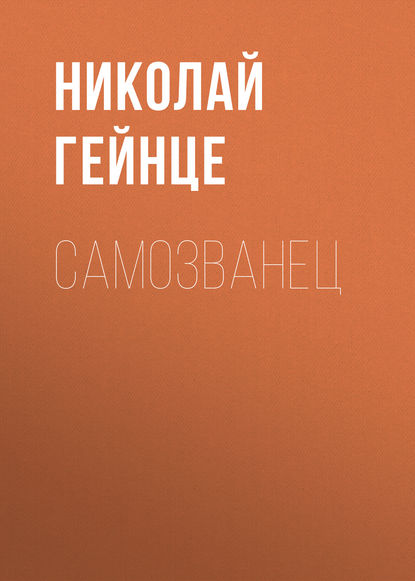полная версия
полная версияГерой конца века
– Но… – начал было Николай Герасимович.
– Без всяких но… – прервала его Строева. – Что вы можете сказать мне? Что вы меня любите? Ха, ха, ха… Я вам скажу, что вы меня даже не любите… Не потому, что вы мне изменяли… Мужчины уж такой подлый народ, они могут изменять и любимой женщине… Они оправдывают это пылкостью своей натуры, жаждою новизны… Пусть так. Есть другие доказательства, кроме вашей измены, что вы не любите меня… Если бы вы любили меня серьезно, вы не оставили бы меня в таком двусмысленном положении, в каком я была до сих пор, вы хлопотали бы о разводе и женились бы на мне… Но вы… вы меняли женщин, как перчатки, вы спокойно ломали им жизнь, как разонравившимся игрушкам… Я не хочу быть этой игрушкой…
– Но кто сказал тебе все это, кто научил тебя так действовать?.. – с невероятною болью в голосе прервал ее Савин.
Она смешалась, видимо, инстинктивно взглянула на де Грене и Тонелли.
– Я узнала все сама, никто не учил меня, – быстро оправившись, сказала она.
Но для Николая Герасимовича было достаточно этого ее беглого взгляда на обоих приятелей, которые к тому же оба тоже смутились.
Он понял все, он тотчас догадался, кому он обязан этой разыгравшейся историей. Это они с ним поступили так «по-приятельски».
Но по этой догадке, в которой он был однако совершенно уверен, он не мог бросить им в глаза обвинения и только посмотрел на обоих презрительным взглядом и горько улыбнулся.
– Но я все же люблю тебя, Муся! – воскликнул он, обращаясь к Строевой.
– Докажите…
– Чем?
– Я обсудила все и решила простить вам измену только тогда, когда вы докажете мне вашу любовь.
– Но я спрашиваю, чем и как?..
– Начинайте хлопотать о моем разводе и дайте мне слово жениться на мне…
Савин несколько минут молчал.
По его лицу было видно, что в нем происходила тяжелая внутренняя борьба.
Маргарита Николаевна глядела на него выжидательно-вызывающим взглядом.
– Этого я не могу, – наконец сказал он, – вы знаете, что я враг брака, а это будет не только брак, но брак насильственный.
– Тогда прощайте… – холодно произнесла Строева.
– Прощайте…
Николай Герасимович сделал всем общий поклон и вышел. С разбитым сердцем он вернулся домой, в гостиницу.
XIII
По закону
Прошла неделя.
Савин несколько оправился от поразившего его удара и решил привести в порядок свои денежные дела и уехать за границу.
Свободная любовь, видимо, и на отечественной почве культивировалась плохо.
Переговорить о деньгах, полученных Строевой за фиктивно проданное ей им, Савиным, Руднево, он поручил своему поверенному господину Бильбасову.
При отъезде из Тулы, считая свою жизнь нераздельной с жизнью его «ненаглядной Муси», Николай Герасимович находил безразличным, хранятся ли деньги, отданные за Руднево княгиней Оболенской, у него в кармане или же в бауле Маргариты Николаевны.
Горе, причиненное сперва странным исчезновением молодой женщины из железнодорожного поезда, а затем объяснением с ней и разрывом, вышибло совершенно из его памяти денежный вопрос.
Самому производить расчеты с недавно близкой ему женщиной он считал положительно невозможным, – это претило его чувству идеалиста.
– Пусть все это устроит третье лицо – поверенный, – решил он и поехал к Бильбасову.
Тот охотно взял на себя это поручение.
– Я ничего не имею против беседы с красивою женщиной, я знаю, что у вас есть вкус, – улыбаясь, сказал он Савину. – Но только едва ли что-нибудь из этого выйдет…
– То есть как, едва ли выйдет?.. Она вам передаст деньги… Больше мне ничего и не надо.
– Чего же больше желать… – расхохотался адвокат. – Только вот в этом-то я сильно сомневаюсь.
– В чем это?
– Да в том, чтобы она отдала деньги.
– Что вы, это не такая женщина.
– Все женщины, батенька, одинаковы. И от того, что попадает в их цепкие ручки… наш ли брат… драгоценности ли, деньги ли, они не очень-то любят отказываться и возвращать.
– Однако от меня она отказалась… – с деланным смехом заметил Николай Герасимович.
– Взяв выкуп в довольно кругленькой сумме.
– У вас ужасный взгляд на людей… и особенно на женщин, я знаю его и потому спокоен… Я знаю и Му… Маргариту Николаевну, – поправился Савин. – На этот раз вы ошибаетесь…
– Увидим, – усмехнулся Бильбасов. – Ждать недолго, я заеду к ней сегодня же.
– А вечером завернете ко мне.
– Хорошо…
На этом поверенный и доверитель расстались. Аккуратный делец в тот же вечер был у Савина в номере «Славянского Базара».
– Видели? – встретил его Николай Герасимович.
– Видел… – с ударением произнес адвокат, опускаясь в кресло у преддиванного стола.
– Что же?
– Обворожительна, прелестна и умна…
– Я говорил вам.
– Умна, потому что приняла меня строго и в конце концов чуть-чуть не выгнала.
– То есть, как чуть-чуть не выгнала? – упавшим голосом произнес Савин.
– Но я не обиделся… Она умна и прелестна… Я доволен беседой с ней… Приятно хоть поглядеть и поговорить. Когда эти хорошенькие женщины сердятся, они делаются, по-моему, еще лучше… Я обыкновенно их нарочно сержу.
– Вы все шутите, в чем же дело?
– А в том, милейший Николай Герасимович, что вам придется в ваш расход вписать восемьдесят пять тысяч, а на приход – свободу… Мне кажется, вы не в убытке… – улыбнулся Бильбасов.
– Она отказалась отдать деньги? – с тревогой в голосе воскликнул Савин.
– А вы как думали… Она была бы величайшей дурой, если бы отказалась добровольно от такого капитала.
– Но это не честно!
– Это проступок – самоуправство… Но в данном случае даже ненаказуемый, по закону она права… Это нравственное самоуправство… Она считает, что деньги принадлежат ей по праву… Это – гонорар… – продолжал смеяться адвокат, не замечая, что Николай Герасимович был бледен, как полотно.
– Расскажите все по порядку, – почти простонал он.
– Но что с вами? – обратил наконец на состояние Савина свое внимание Бильбасов. – На вас лица нет… Неужели вам так жалко этих денег?
– Не то, не то… – замахал руками Николай Герасимович. – Мне жалко мое растраченное чувство на… продажную женщину.
– Гм… продажная… Ну, знаете, это все зависит от цены, почти сто тысяч… это уж не продажность… Впрочем, вы идеалист.
– Не надо об этом… – взмолился Савин, – расскажите, что же она говорила вам?
– Барынька приняла меня очень строго… Когда же я ей объяснил дело, по которому приехал, строгость ее еще более увеличилась… «Я не понимаю, – сказала она, – и крайне удивлена, по какому праву господин Савин требует от меня деньги за проданное мной княгине Оболенской мое имение…» Слово «мое» она сильно подчеркнула. «Руднево, – продолжала она, – продал господин Савин мне по купчей крепости и потому его требование о возврате принадлежащих будто бы ему денег мне кажется просто странным».
Бильбасов остановился.
– Вот как… – уронил Николай Герасимович.
– Кроме того, она меня просила вас предупредить, что если вы ее будете беспокоить и требовать эти деньги, то она будет вынуждена обратиться за защитой к высшей администрации и что господин де Грене ей в этом поможет… Вот и все.
– Вы действительно правы, она такая же, как все! – воскликнул Савин.
Как в тумане сделал Николай Герасимович на другой день в Москве последние распоряжения по имениям и по переводу сумм на заграничных банкиров и с вечерним поездом уехал за границу.
Тяжесть головы не проходила.
Он не помнил, как он доехал до Вены, и очнулся лишь после четырехмесячного пребывания в этом городе, в психиатрической лечебнице.
Сильная натура Савина восторжествовала над болезнью – он стал поправляться и вскоре вышел из лечебницы.
Лечившие его доктора посоветовали для окончательного поправления здоровья ехать на юг.
Следуя их советам, он отправился в Ниццу.
На дворе стоял январь 1885 года.
С Савиным был неразлучно его верный Петр, ходивший за ним, как нянька, во все время его болезни, и теперь, хотя опасность миновала, ему еще часто приходилось утешать и уговаривать своего барина.
Сердце Николая Герасимовича все еще болело, нервы были страшно расстроены, и глубокая рана, нанесенная любимой женщиной, не заживала.
При этом он узнал, что и она несчастна.
Он имел эти сведения из писем своего поверенного Бильбасова, не на шутку заинтересовавшегося Маргаритой Николаевной, и, наконец, получил покаянное письмо от самой Строевой.
Картина участия во всей минувшей и так сильно отразившейся на его здоровье истории его приятелей, де Грене и Тонелли, о которой он догадывался, выяснилась вполне из этих писем.
Выяснилась и цель, ради которой они действовали.
Оказалось, что во время отсутствия Савина и особенно во время последней поездки в Серединское, оба друга старались всячески разочаровать в нем Маргариту Николаевну, действуя на ее слабую струнку – ревность. Де Грене начал с того, что стал ей рассказывать все похождения Николая Герасимовича за границей и жизнь в Париже. Затем стал выражать свое сожаление, что она живет с таким легкомысленным человеком, как Савин, который способен ее бросить из-за первой встречной юбки. Шепнул он даже, что поездка в Серединское не деловая, и передал ей все, что знал о ключнице Насте. При этом он счел долгом посоветовать ей обеспечить себя в материальном отношении, поздравляя ее с тем, что она уже сумела прибрать к рукам Руднево. «Это единственный способ прибрать Савина к рукам и даже заставить его жениться», – заметил де Грене. Он выразил, кроме того, удивление, как она не заставила Николая Герасимовича до сих пор устроить развод с ее мужем и жениться на ней, в чем даже предложил ей свою активную помощь.
Тонелли, со своей стороны, советовал Руднево продать, а деньги поместить в выгодное предприятие на ее имя, что вполне-де гарантирует ее от всяких случайностей и легкомыслия ее друга.
Вообще, они сумели так искусно подвести свои сети, что убедили Строеву действовать в для приведения в исполнение составленного ими плана.
Выход ее в Серпухове во время сна Николая Герасимовича был сделан также по их совету. Со следующим поездом она была уже в Москве.
Но эти махинации подлых людей были только прелюдиями к еще более грязному плану, жертвой которого была намечена Маргарита Николаевна. Де Грене так сумел подделаться к ней, что она ему безусловно верила и считала его своим лучшим, преданным другом. После отъезда Савина за границу, она подпала совершенно под его власть, он давал ей советы во всех, а главное в денежных делах. Неопытная женщина слушала его и действовала по его указаниям и в конце концов де Грене ее совершенно обобрал, вероятно, не забыв бросить крохи и старьевщику Тонелли.
Все это откровенно рассказала в письме Маргарита Николаевна Строева, умоляя Савина простить ее и уведомляя, что она сошлась со своим мужем и они живут в Киеве на проценты с его неприкосновенного капитала.
«Это первый человек, которого я сделала несчастным и больным, – оканчивала она свое письмо, – он до сих пор безумно любит меня, и я постараюсь лаской и уходом за ним хотя несколько искупить мою вину перед многими и, главное, перед вами».
Николай Герасимович ответил ей прочувствованным письмом, в котором сообщил ей, что давно все ей простил и желал ей счастья и, главное, душевного покоя.
Хандра Николая Герасимовича продолжалась.
В первое время его приезда в Ниццу он нигде не бывал и ничем, казалось, не интересовался.
Лечивший его доктор Гуаран часто журил его за его нелюдимость и уговаривал не думать о прошедшем, а стараться развлечься настоящим.
Благодаря этим советам и увещаниям, Савин начал появляться в обществе, посещать театр и Монте-Карло с его знаменитым «Казино» – этим царством рулеток.
Монте-Карло, как известно, находится в двадцати верстах от Ниццы по железной дороге.
«Heureux au jeu, malhereux en amour» (счастлив в игре, несчастлив в любви), – говорит французская пословица.
Она всецело оправдалась на Савине.
Ему страшно везло, и он выигрывал почти ежедневно по десяти, по пятнадцати тысяч франков.
С радостью он бы отдал все эти выигрыши, лишь бы не подходить под эту пословицу и быть счастливым в любви.
Но судьба пока что сулила иначе.
Николай Герасимович продолжал выигрывать крупные куши, и это счастье доставило ему в Монте-Карло и в Ницце громкую известность, его стали звать «счастливый русский».
Но этот «счастливый» не был счастлив, хотя огромные выигрыши подействовали на него благотворно.
Он как будто протрезвился, мысли его перешли от прошедшего к настоящему; образ жизни его изменился: он стал жить на широкую ногу, соря деньгами и доставляя себе всевозможные удовольствия. Он купил лошадей, выписал из Парижа великолепные экипажи, давал обеды и бывал везде.
Делать все это он мог легко на выигрыш в более полумиллиона.
XIV
Утешительница
В начале марта герцог де Помар давал вечер на своей прелестной вилле близ Ниццы.
Торжество это было в честь одной из звезд парижского полусвета, актрисы Palais Royal, Бланш Берту, за которой герцог ухаживал.
Все актрисы и кокотки высшего полета, жившие в Ницце, были на этом празднике, что придавало, конечно, ему много веселья и оживления.
Николай Герасимович, приглашенный также на этот вечер, знал всех этих милых грешниц, бывавших почти ежедневно в Монте-Карло, а со многими был знаком с Парижа.
Одна только из присутствовавших была ему совершенно неизвестна.
Это была очень хорошенькая, высокая, стройная блондинка, поразившая Савина своею типичною красотою и замечательным сходством с королевой Марией-Антуанеттой.
Приличные манеры и туалет резко выделяли ее среди других присутствовавших дам.
Николай Герасимович узнал, что ее зовут Мадлен де Межен и что она недавно приехала в Ниццу с венским банкиром Кенигсвартером и проведет здесь весь сезон.
Поразительное сходство m-lle Межен с несчастной красавицей-королевой очень сильно заинтересовало его, и он попросил герцога представить его m-lle Межен.
Знакомя Савина с ней, герцог, между прочим, сказал:
– Представляю вам несчастного счастливца.
– Что это значит? – вопросительно взглянула она на представлявшего.
– Он на днях выиграл более полумиллиона и все-таки скучает и не считает себя счастливым, – сказал герцог и поспешил на зов Бланш Берту.
– Я вас вполне понимаю, – сказала Мадлен Николаю Герасимовичу, – не в одних деньгах счастье.
Вечер прошел очень весело для всех и даже для Савина, который все время проболтал с новой знакомой, заставившей на время забыть его горе.
Он узнал от нее, что она приехала в Ниццу недавно и думает прожить месяца два, что барон ее уезжает через несколько дней.
Она даже позволила Николаю Герасимовичу к ней приехать после его отъезда.
Он не замедлил воспользоваться этим приглашением и пять дней спустя уже сидел у очаровательной Мадлен в роскошных апартаментах, занимаемых ею в «Hotel des Anglais».
Разговор коснулся между прочим фразы герцога Помара, сказанной им при представлении Савина: «несчастный счастливец».
– Объясните мне подробнее, что это значит и почему вы, независимый, молодой, богатый человек, чувствуете себя несчастным… Вы влюблены?
– Теперь на дороге к этому… – отвечал Николай Герасимович.
– Нет, не шутя, расскажите мне, если можете и желаете, что вас довело до такого состояния… Мне это очень интересно.
Савин без долгих предисловий рассказал ей о своих сердечных страданиях и разбитой жизни.
Что-то тянуло его на откровенность, и он выложил все, что тяготило в последнее время его измученную душу.
– Как определить вам мое настоящее состояние духа, этот индиферентизм ко всему в жизни и паралич страстей, еще так недавно во мне кипевших ключом.
– Это интересно, это очень интересно, – воскликнула Мадлен, – мне еще ни разу не приходилось встречаться с человеком, обладающим такою впечатлительною и романическою натурой, как вы… Но это ваше состояние ненормально и нуждается в серьезном лечении… Хотите, я вас вылечу!.. – с очаровательной улыбкой добавила она.
– Вы меня сделаете счастливым, – ответил Николай Герасимович, пожирая ее глазами, в которых начали вновь загораться огоньки потухшей было страсти.
Лечение началось, и то, что не удалось врачам и науке, удалось вполне хорошенькой женщине.
Неделю спустя после его первого визита к Мадлен, Савин был здоров и влюблен.
Страшная меланхолия, так мучившая его до сих пор, сразу исчезла.
Он уже не видал перед собою открытой пропасти – над ним разверзлось небо.
Необыкновенно легкое, уносящее вверх чувство овладело им настолько, что он просто не сознавал тяжести своего тела.
Точно с момента знакомства с Мадлен у него выросли крылья.
С каждым днем любовь его росла: Мадлен стала для него необходима.
С развитием этого, охватывавшего его все более и более чувства, ему сделалась противна его прошлая жизнь, и ему казалось, что прелесть жизни началась с той минуты, когда он впервые увидал светлый, чистый образ Мадлен де Межен.
Последняя была на самом деле удивительно хороша.
С замечательно правильными и живыми чертами лица, с тонкой, изящной и гибкой талией, блондинка с роскошными золотистыми волосами, она обладала истинно царственной грацией сирены.
Ее большие голубые глаза, то глубокие, то веселые, то задумчивые, открывавшие душу, не знакомую с расчетами, были обворожительны.
В жалком разбитом существовании Николая Герасимовича Мадлен явилась якорем спасения.
Точно в комнате, наполненной удушливым дымом, открыли окно, и струя свежего воздуха очистила атмосферу и тем спасла задыхавшегося.
Он чувствовал снова силы, которые как будто проснулись после долгого сна, а с силами вернулась и разгорелась в нем страсть.
Эта страсть, неукротимая и жгучая, бушевала в его крови и рвалась наружу.
Он не мог больше сдерживаться и владеть собою и должен был высказаться.
Он с радостью стал замечать, что с каждым днем Мадлен относилась к нему с все большей симпатией, без всякого принуждения, как добрый товарищ, он читал даже в ее глазах, что она понимает его чувства к ней и разделяет их.
Вернувшись как-то раз из Монте-Карло, куда он ездил с целой компанией, Савин проводил Мадлен де Межен домой.
Около отеля она попросила его зайти к ней.
Он вошел, и они вдвоем уселись на балконе и стали мило беседовать.
Был один из тех чудных мартовских вечеров, какие бывают только на юге.
Теплый полный влаги ветер дул с моря. Луна мягко освещала темную гладь его, слившуюся на горизонте с небом, усеянным яркими звездами.
Дневной шум города стих.
Им обоим было легко и весело в этот вечер, и они болтали без умолку.
– А леченье мое действует… – очаровательно улыбнувшись, заметила между прочим Мадлен.
– Да, леченье ваше сделало чудеса, – отвечал Николай Герасимович, – я снова переродился и сделался опять прежним… Но это излечение пробудило во мне прежнюю страсть… Ах, если бы вы знали, Мадлен, каково скрывать такую бурю в сердце, которую скрываю я… Порой я теряю власть над собой – она рвется наружу… Знаете ли вы это… Понимаете ли вы меня?
Она склонила голову на бок и посмотрела на него тем особенным взглядом, в котором таилась какая-то загадка. Что выражал этот взгляд? Радость или только торжество одержанной победы?
Под обаянием взгляда он бросился к ее ногам.
Мог ли он поступить иначе – она была очаровательна.
Он схватил ее маленькую нежную ручку и прижал ее к своим горячим губам.
– Я люблю вас, Мадлен! Люблю безумно, страстно и жить без вас не в состоянии! Вы вылечили меня. Вы оживили во мне умирающие страсти и, оживив их, не должны их убивать. Умоляю вас, скажите мне, любите ли вы меня?
Молча она наклонилась к нему.
Их губы слились в горячем поцелуе.
Мы пугаемся иногда немедленного исполнения желания, считаемого почему-либо невозможным или преждевременным.
И Савин, под влиянием своего неописуемого счастья, стоя на коленях у ног Мадлен, покрывая поцелуями ее руки и платье, чувствовал среди своего блаженства смутную тоску и страх.
На следующий день Мадлен написала своему банкиру, чтобы он не рассчитывал на ее возвращение в Вену, так как она любит другого и любима им.
Ей было только девятнадцать лет.
Она происходила из очень хорошей французской дворянской семьи. Ее мать умерла, когда Мадлен была еще ребенком, отец же ее был убит в франко-прусскую войну, командуя полком при защите Парижа.
Воспитание она получила в Sacre-Coeur, откуда вышла по окончании курса, семнадцати лет, и поселилась у своего опекуна господина д'Обольи, друга и боевого товарища ее отца, который любил ее, как родную дочь.
Но недолго пришлось ей жить у ее благодетеля.
Граф д'Обольи вскоре скоропостижно умер, оставив молодую и неопытную девушку совершенно одну.
Не имея никого: ни родственников, ни близких друзей в Париже, ей пришлось с семнадцати лет жить совершенно самостоятельно одной, что, конечно, опасно для хорошенькой и молоденькой девушки, особенно в современном Вавилоне.
Вскоре она познакомилась у одной из своих институтских подруг с молодым человеком Жоржем Дюпоном, который стал за ней ухаживать и наконец сделал предложение. Согласившись выйти за него замуж, Мадлен стала, как жениха, принимать его у себя, но эти визиты окончились не свадьбой… И вскоре Жорж Дюпон исчез.
После этого рокового шага жизнь в Париже сделалась для Мадлен невыносимой. Она уехала в Швейцарию, где встретилась с бароном Кенигсватером и сошлась с ним.
Это было за год до знакомства с Савиным.
В упоении счастья Николай Герасимович, конечно, забыл и думать об игре и перестал ездить в Монте-Карло.
Да и в Ницце у него было очень много дел: он купил виллу, куда и перевез жить Мадлен.
Это была прелестная маленькая вилла на берегу моря, по дороге в Ville Franche, окруженная роскошным садом из апельсиновых и пальмовых деревьев.
В главное здание переехала Мадлен, а Савин устроился в небольшом павильоне, находившемся в глубине сада, куда перебрался и Петр с вещами барина.
Устроившись и роскошно отделав новое жилище, Мадлен и Савин справили новоселье.
Мадлен пригласила всех друзей и знакомых, а также некоторых дам высшего полусвета.
Вечер очень удался.
Ужин с икрой, рябчиками и огромными стерлядями, выписанными Николаем Герасимовичем из России, произвел положительный фурор.
На другой день все ниццские газеты были переполнены описанием прелестного вечера у Мадлен де Межен, биографиями русских стерлядей-гигантов, выписанных в Ниццу с берегов Волги всем известным русским барином господином Савиным.
Большую сенсацию произвело на этом вечере поднесение Николаем Герасимовичем всем присутствовавшим дамам сувениров в память новоселья.
Эти сувениры состояли из ценных порт-боннеров.
Его милой хозяйке он поднес бриллиантовое колье, за которое заплатил пятьдесят тысяч франков.
Мадлен была в восторге, и Савин радовался еще больше, видя ее радость.
Начался медовый месяц влюбленных.
Николай Герасимович боготворил Мадлен, и та отвечала ему взаимным обожанием.
Казалось, что после многолетнего плавания по бурному житейскому морю, Савин наконец обрел себе тихую пристань, сулившую ему вечное счастье.
После праздника, особенно первое время, Савин и Мадлен вели замкнутую жизнь. Изредка, впрочем, они ездили в Монте-Карло.
Мадлен любила играть в рулетку, но не умела.
Николай Герасимович учил ее.
Время летело.
XV
Дуэль
Как-то раз Мадлен и Савин были в казино в Монте-Карло.
Она сидела и играла, а он, стоя за ее спиной, наблюдал за ее игрой и давал советы.
Мадлен поставила золотой на 26, и номер этот вышел, но не успела она взять еще отсчитанные крупье тридцать шесть золотых, как к этим деньгам протянул руку какой-то стоящий сзади господин.
– Позвольте, – заметила Мадлен, – это деньги мои, так как я поставила золотой на 26.
– Нет, это поставил я, и если я говорю, то мне должны поверить скорее, нежели какой-нибудь кокотке! – горячился господин, произнося эту фразу с сильным итальянским акцентом.
Молодая женщина побледнела, на глазах ее показались слезы. Савин вспыхнул.
Он сам видел, как Мадлен поставила золотой на 26, а выражение этого нахала он не мог оставить без внимания.
– Эта дама со мной, милостивый государь, а потому прошу вас быть поосторожнее в выражениях. – заметил ему Николай Герасимович.
– Мне какое дело с кем она, я вижу птицу по полету и имею право называть кокотку кокоткой.
Не успел он договорить этой фразы, как Савин размахнулся и дал ему увесистую пощечину.
Получивший удар итальянец схватился за щеку и, что-то ворча на своем языке, выбежал из залы.