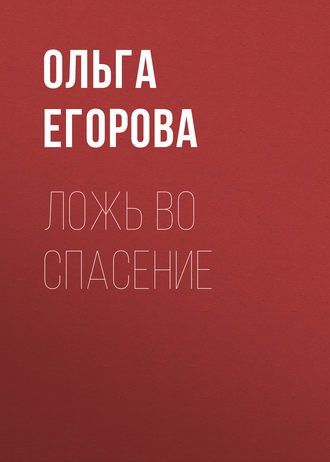
Полная версия
Ложь во спасение
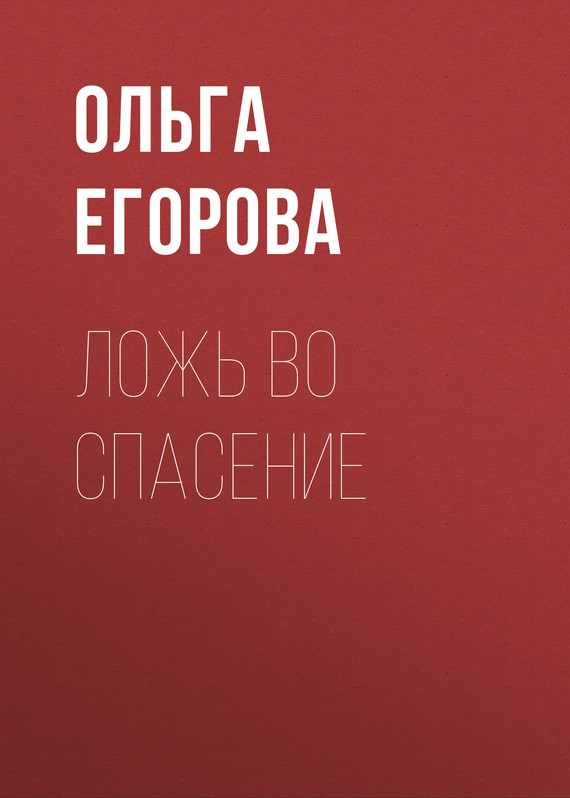
Ольга Егорова
Ложь во спасение
Я закрываю глаза, и мои веки становятся Воротами Солнца.
Тонкие голубоватые прожилки вен – как множество узких улочек Мадрида, давным-давно позабывших свои названия. Вечность, отливающая прозрачной зеленью Средиземного моря, спокойно струится по этим улочкам вниз, медленно стекает по ним горьковатым вересковым медом и застывает перламутровой каплей жемчуга на площади Пласа-Майор. Именно сюда, рука об руку с вечностью, является каждый вечер ее взбалмошная и привередливая сестрица. Смерть, окруженная ослепительной красотой – здесь ее можно увидеть и потрогать руками, ощутить ее завораживающий запах, вкус и цвет и в считанные секунды понять, насколько банальна и нелепа в своих претензиях на первенство Жизнь, давшая ей начало. Тысячи глаз следят за их поединком. Тысячи рук взметаются вверх, тысячи сердец стучат в одном сумасшедшем ритме и замирают в один момент.
Октябрь в Мадриде – сезон корриды.
Именно сюда из года в год, из века в век, вздернув надменный подбородок, является Смерть в своем самом прекрасном, самом чистом и первозданном виде. Именно здесь можно услышать шорох ее ресниц в момент финального удара, в ту самую секунду, когда лезвие шпаги входит между лопаток в сердце быка.
Я вижу, как танцует Смерть, укрытая бархатным красным плащом, возле изнеможенной и израненной жертвы собственной прихоти. Складки плаща развеваются на ветру, а воздух вокруг наполнен горьковатыми запахами цветущего тимьяна, пьянящими запахами трепещущего на ветру розмарина. Прежде, чем сбросить плащ и остаться перед зрителями обнаженной, она выдерживает паузу – несколько секунд, небольшой временной отрезок, вмещающий в себя сотни тысяч веков прожитых и сотни тысяч тех, что еще предстоит пережить. На ее губах играет торжествующая улыбка. В этом любовном треугольнике нет лишних, в этом поединке нет проигравших. В момент удара мир разделяется на «до» и «после», и тысячи зрителей, слившихся в порыве экстаза, не успевают заметить, как Смерть исчезает.
Воздушным поцелуем она летит дальше, к Пуэрто-дель-Соль, чтобы затеять новую игру. На арене лишь поверженный бык и матадор, победоносно сжимающий в руках окровавленную шпагу. И в эту секунду всем становится очевидно, что Смерти нет.
Смерти нет. И красный бархатный плащ – всего лишь декорация к спектаклю, разыгранному толпой, одержимой жаждой зрелищ. Каменные стены Буэн-Сусесо сохранят свою тайну в веках, Белая Мари ни о чем не расскажет. Вокруг фонтана и у стен монастыря Сан-Фелипе вскоре обоснуется рынок, и люди станут продавать здесь мясо и овощи. Воздушные поцелуи не оставляют следов. Камень и мрамор обречены на вечную немоту, и никому не дано понять, о чем так грустно шепчут воды реки Мансарес, о чем так торжественно молчат горы Гуадаррамы.
Свидетелей нет, а значит, и смерти нет тоже. Зеленые полотна в виде креста, которые расстилали на площади Крус-Верде перед казнью, совсем ничего не значат. Эта смерть – другая, лишенная своего первозданного очарования, не в счет. Ее придумали люди, в ней нет ничего божественного. Жалкая старуха с косой за плечами – разве способна она вызвать священный трепет, разве достойна она красного бархатного плаща, и разве ее нагота не отвратительна?
«Смерти нет», – шепчу я, почти не размыкая губ, и в следующую секунду вдруг голос реальности грубо обрывает поток чистой экзистенции, в котором мне было так уютно.
Я открываю глаза, и вместе с голосом реальность наконец обретает земной зрительный образ.
– Будете заказывать что-нибудь еще? – слегка наклонив голову, интересуется официант.
Видимо, интересуется уже не в первый раз – воистину, его терпению позавидовал бы сам святой Исидоро.
Возможно, это он и есть, покровитель Мадрида, стоит сейчас передо мной в сто тысячной своей реинкарнации, растягивая губы в вежливой улыбке, которой его долго и тщательно обучали на курсах для обслуживающего персонала в ресторане «Эскориал». Не самый худший вариант, если учесть, что возможности выбора перед лицом небесной канцелярии лишены даже такие важные персоны, как он.
Впрочем, Исидоро не привыкать к роли слуги, если вспомнить, каким было его первое земное воплощение.
– Что-нибудь еще? – повторяет официант, не подозревая о том, какие мысли бродят сейчас в моей лохматой белобрысой голове.
Я улыбаюсь. Мне хочется попросить его извлечь из-под полы красной рубахи железные тиски, дотронуться ими до камня, выбранного наугад из бесчисленного множества серых камней, слагающих стену, и налить в высокий стакан тонкого стекла воды из чудесного источника, который зажурчит прямо здесь, в зале ресторана, от его волшебного прикосновения. Мне хочется, но я сдерживаюсь, чтобы не смущать и без того уже смущенного русского парня в испанском прикиде, за небольшую зарплату и вечную надежду на чаевые вынужденного терпеть выходки всегда правых клиентов.
В ответ я лишь отрицательно качаю головой. И снова улыбаюсь Святому Исидоро, покровителю Мадрида, милосердно забывая о том, что он только слуга. На вид ему лет двадцать, не больше. Мы почти ровесники, и это значит, что мы в чем-то похожи. Первый сексуальный опыт в недавнем прошлом, нелепый выпускной бал, учебники и конспекты по ночам в период зимней и летней сессии, косячок по кругу, изредка – кое-что посерьезнее, бесконечные скандалы с родителями и вечный бунт мечущегося сердца.
Милый мальчик с терпением святого мученика, с испанским профилем Антонио Бандераса, осанкой короля Фердинанда Седьмого и глубокими черными глазами, заглянув в которые, можно прочесть все поэмы Федерико Гарсия Лорки сразу. Здесь все такие – стоит лишь оглядеться по сторонам этого высококлассного, уникального в своем роде общепита. Может быть, они и в самом деле родные братья?
Меня слегка мутит от вина. Наверное, в этот вечер я выпила его слишком много. Впрочем, как и в каждый из предыдущих моих вечеров в псевдо-испанском стиле. Я подсела на этот чертов ресторан, как на наркотик. Я торчу здесь вечерами вот уже третью неделю подряд, и даже не имею понятия, сколько еще это будет продолжаться. За столь долгий срок пора бы уже, кстати, научиться отличать друг от друга милых придуманных мальчиков в одинаково красных рубашках.
Пора бы, но я так и не научилась.
– Бруно, – прищурившись, читаю придуманное имя на крохотном бейджике. – Скажите, Бруно, как вас зовут? Как вас зовут на самом деле?
– Владимир, – охотно рассекречивается Бруно и бросает на меня короткий взгляд, полный исконно русского оптимизма.
Или мне показалось?
Он начинает собирать на отделанный серебром поднос ножи и вилки, тарелку с остатками андалузского гаспаччо. Бокал, на самом дне которого еще мерцает янтарным светом недопитое Альбарино. Лениво соображаю, не заказать ли еще вина. В этот момент лже-Бруно внезапно склоняет ко мне лицо. Сомневаться в том, что сейчас он хорошо поставленным тенором напоет мне на ухо арию Хосе из оперы «Кармен», практически не приходится. В крайнем случае, это будет отрывок из какой-нибудь поэмы Антонио Мачадо, если голос у Бруно партии Хосе никак не соответствует.
Я уже готова и к арии, и к отрывку из поэмы, но вместо этого слышу всего лишь прозаический шепот:
– Не уходите.
Брови ползут вверх: неужели это он мне?
Нет, дело, конечно, даже не в том, что я вообще-то не из тех девушек, о которых стандартно мечтают мальчики с профилями Антонио Бандероса и осанками короля Фердинанда. Профиль и осанка, по большому счету, ничего не значат и никак не влияют на вкусовые предпочтения. Но в заведениях подобного рода, кажется, не принято, чтобы официант так откровенно клеил посетительницу. Узнай об этом дирекция – несчастного Бруно пнут сапогом под зад так, что мало не покажется. Никто и не посмотрит, какая там у него осанка и чей у него профиль. Прощайте, скромная зарплата, красная рубаха и вечная надежда на чаевые, здравствуйте, задворки мелкооптового продуктового склада, тяжелые ящики с пивными бутылками и пыльные мешки с мукой первого сорта. Воистину, было бы лучше, если б он спел мне арию Хосе.
На размышления о печальной судьбе Бруно-Володи уходит несколько коротких секунд, по истечении которых ситуация проясняется самым банальным образом:
– Не уходите, – повторяет Бруно таинственным шепотом. – Еще несколько минут, и вас ждет кое-что интересное… Кое-что очень интересное и очень стоящее, поверьте…
Оказывается, это был обычный рекламный ход. Таинственный шепот официанта просто входит в программу обслуживания посетителей, которые, следуя незыблемому правилу удачного ресторанного бизнеса, должны оставаться в заведении как можно дольше. Никакой романтики: мы с Бруно – всего лишь пешки в чужой игре, правила которой придумали люди, вложившие бабки в это грандиозное псевдо-испанское предприятие. Замок Эскориал, сошедший с гравюры Педро Перета и прочно обосновавшийся в северной части российской столицы, должен приносить доход тем, кто его придумал и создал. Все просто, как дважды два.
Мне становится грустно и смешно сразу. Пытаясь разобраться в собственных эмоциях, ловлю интригующий взгляд официанта и понимаю, что он еще не все сказал.
Слабый запах миндаля и кофейных зерен доносится от его гладко выбритой щеки. Мне хочется дотронуться до этой щеки, мне хочется нарушить правила, но вместо этого я почему-то тихо спрашиваю:
– Да? И что же это?
Интригующая пауза все продолжается. Уважая молчание Бруно и отдавая должное величию ситуации, изо всех сил пытаюсь сохранить заинтересованное выражение на лице, тем временем лениво перебирая возможные варианты его ответа.
Старушка Монсеррат с двухчасовым концертом, увенчанным «Барселоной» в дуэте с воскресшим на время визита в российскую столицу Фредди Меркурии? Это было бы слишком просто. Коррида с настоящим испанским матадором и настоящим испанским быком на узкой сценической площадке – нелепо. Заливное из рыбы, пойманной на заре христианской эпохи апостолом Иаковом и подаваемое за счет заведения – слишком рискованно для желудка.
Нет, ни то, ни другое и не третье.
Тогда, черт возьми, что же?
Пауза затянулась – еще несколько секунд, и я уже не смогу справиться с зевотой.
Черные и длинные ресницы Бруно взлетают вверх, плавно опускаются вниз, и наконец он произносит:
– Пабло Гавальда.
«Пабло Гавальда» – мысленно повторяю я. Мне хочется реветь от досады. Чертов Бруно, оказывается, не на шутку заинтриговал меня своим долгим молчанием, и вот теперь я чувствую себя так, как чувствует себя пассажир самолета, летящего в город его мечты Париж, но по непредвиденным обстоятельствам вдруг приземляющегося в районе деревни Большие Коромысла, как раз в окрестностях местной птицефабрики. Как котенок, которому вместо миски с хрустящими мясными шариками подсунули миску с его собственными засохшими экскрементами.
Пабло Гавальда – это даже не испанский король.
Это вообще неизвестно кто.
Если это имя ни о чем не говорит мне – мне, с раннего детства помешенной на Испании, с раннего детства бредящей Испанией, вот уже третий год целенаправленно изучающей на филологическом факультете самого престижного университета страны язык, историю и культуру Испании – значит, тарелка с засохшими экскрементами была вполне удачным сравнением.
Прокол, господа вседержители, господа создатели испанского рая на северной окраине российской столицы! Этот ваш Пабло Гавальда – вопиющая «двойка» по основному предмету; косяк, забитый вместо марихуаны обыкновенным чайным листом; поцелуй сомкнутыми губами, дешевая имитация бурного оргазма, дворняга, жалко поскуливающая у захлопнувшейся двери на выставку представителей чистокровных шарпеев. Кто он такой, этот ваш Пабло Гавальда?
Я адресую вопрос едва ли не лопающемуся от торжественности момента Володьке:
– Кто он такой, этот ваш Пабло Гавальда?
Володька снисходительно усмехается, снова рискуя оказаться на задворках мелкооптового продуктового склада за непочтительное обращение с посетителями ресторана, и доверительно сообщает:
– Это бард. Настоящий испанский бард из Сантьяго-де-Компостеллы. Золотой голос, виртуозные пальцы. Он согласился некоторое время у нас поработать… Всего лишь несколько дней. Не торопитесь уходить. Вот увидите, вам понравится. Вам очень понравится… Вы ведь любите Испанию?
То, что я люблю Испанию, написано у меня на лбу крупными буквами. Володька не открывает Америки. Пусть в полумраке ресторанного зала эти буквы неразличимы, об этом нетрудно догадаться, сосчитав в уме количество вечеров, проведенных мною в этом чертовом кабаке со дня его открытия. Помножив получившуюся сумму на количество условных единиц в рублевом эквиваленте, снятых с родительского банковского счета. Возведя ее в степень тотального одиночества, неизмеримую и неподвластную числовым манипуляциям.
Впрочем, это уже мои личные проблемы.
– Вы любите Испанию, – полувопросительно повторяет Володька.
Моя любовь к Испании сидит со мной за одним столиком. Она курит сигареты из моей пачки, пьет вино из моего бокала и изредка выбегает в дамскую комнату, чтобы втянуть хищными ноздрями крошечное облачко белого порошка. Нужно быть слепым, чтобы не заметить рядом со мной эту взбалмошную красотку с серебряным гребнем и вызывающе алым бантом в черных волосах.
– Это ваше дрянное заведеньице не имеет ничего общего с настоящей Испанией, – говорю я Володьке, мстительно оглядывая кованые решетки на окнах, монументальные фрески на стенах и скульптурную композицию, изображающую Филиппа Второго с семьей – точную копию той, что была когда-то создана по заказу монарха итальянцем Фабрицио Кастелло.
– Вы так не думаете, – нагло заявляет Володька, в третий раз рискуя оказаться за бортом испанского корабля своей надежды.
Его дерзость меня покоряет.
Побежденная, я заказываю бутылку андалузского вина – «Педро Хименес», лучший и благородный сорт винограда, и остаюсь за столиком, покорно ожидая появления золотого голоса вкупе с виртуозными пальцами. Снова закрываю глаза, ожидая с привычной легкостью перенестись куда-нибудь в Кастилию, под своды дворца Каса лас Муэртес. Легкая музыка доносится из невидимых динамиков – вплоть до сегодняшнего вечера здесь использовали обычную инструментальную фонограмму, обходясь без дорогостоящего живого звука. Тихая «Ilsa del sol» традиционно сменяется еще более романтической «Cartas de amour». Я знаю все композиции наизусть в порядке их очередности, и мне немного тревожно от того, что в моем придуманном рае сегодня должно что-то измениться. Потягивая вино, я жду, когда на сцене появится Пабло Гавальда.
Вино в бакалее играет, отражая сотни неразличимых оттенков пламени свечи.
* * *Лену Лисичкину всегда раздражала осень. Особенно – поздняя.
Перед этим временем года она испытывала патологическую растерянность и в глубине души всегда надеялась, что, может быть, в этом году ей повезет и поздняя осень вообще не наступит. Лето волшебным образом за одну ночь превратится в зиму, и не будет противной слякоти на дорогах, бескровного неба, колючих дождей и вязких туманов. Не нужно будет каждый день таскать в сумке складной зонт в красно-белый горошек, который от сильного ветра всегда ломается, ощетинивается колючими спицами, превращаясь в злобного доисторического монстра с нелепыми претензиями на оригинальность в окраске. Не нужно будет три раза в день чистить щеткой заляпанные грязью джинсы, носить дома поверх водолазки старую шерстяную кофту и греть вечерами озябшие руки у масляного обогревателя, с тоской поглядывая на холодные батареи, у которых еще почему-то не начался отопительный сезон.
Но поздняя осень каждый год наступала. Несмотря на то, что Лена Лисичкина ее совсем не любила и вовсе не ждала. На желания Лены Лисичкиной ей, поздней осени, было наплевать с высоты Эйфелевой башни. А может быть, даже еще с более высокой высоты – она наступала, потому что ей так хотелось, и еще потому, что ее права и обязанности официально поддерживались законами природы, без всяких поправок и дополнений, и мнения Лены Лисичкиной по этому поводу никто не спрашивал.
Ранняя осень – со всеми ее красками, запахами и прочими прелестями эстетического порядка – вызывала в душе острую тоску по уходящему лету. Вместе с летом уплывала за синий горизонт и мечта об отпуске, который уже закончился и теперь снова начнется совсем-совсем нескоро. Туда же, за синий горизонт, вслед за мечтой об отпуске уплывал и очередной год прожитой жизни. Теплый осенний ветерок, шелестя листьями и станицами перекидного календаря, уносил с собой этот год, вот уже двадцать девятый по счету, оставляя в душе лишь глухую тоску и ощущение полной безысходности.
Словно в насмешку, день рождения Лены Лисичкиной приходился на тридцатое сентября.
Нет, не понять ей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Не разгадать, как ни пытайся, причины, по которой поэту была так приятна эта «прощальная краса», из-за которой иногда – хоть в петлю лезь.
Наверное, для того, чтобы оценить осень, нужно все-таки быть поэтом.
Лена Лисичкина поэтом не была.
Ее профессия вообще была далека от романтики.
В самом деле, откуда взяться романтике в психиатрической клинике? Ни в приемном отделении, ни в ординаторской, ни в длинных больничных коридорах романтикой и не пахнет. Везде, как в любой другой больнице, пахнет больницей. Пахнет лекарствами, растворами для стерилизаций, кварцем и сыростью от непросушенного до конца в прачечной постельного белья. Пахнет пылью, лежащей на подоконниках и на раскидистых листьях монстер, фикусов и огромной юкки, расположившейся, как царица на троне, в инкрустированном речными камнями горшке, в самом центре вестибюля. И к этому запаху медикаментов и стерильной больничной пыли примешивается еще один, стойкий, неистребимый запах глухого отчаяния.
И даже в насквозь пропитанном табачным дымом лестничном пролете между шестым и пятым этажами клиники, в импровизированной полулегальной «курилке», где молоденькие медсестры в ажурных черных чулках и белоснежных, коротеньких медицинских халатах, просвечивающих кружевное белье, делятся друг с другом, иногда посмеиваясь, а иногда тяжело вздыхая, последними новостями из личной жизни, порой проскальзывают начисто убивающие всякую романтику медицинские словечки.
Сама Лена ажурных чулок никогда не носила, и халат у нее был совершенно обыкновенный, начисто лишенный легкомысленной прозрачности. При этом надевала она его поверх джинсов и какой-нибудь тепленькой водолазки. Зато Лена носила очки с толстыми линзами в темной пластмассовой оправе, лишь изредка заменяя их контактными линзами, а волосы всегда собирала в тугой, скрепленный шпильками и невидимками, узел на затылке.
За четыре года работы в клинике никто и никогда не видел Лену Лисичкину с другой прической. Те редкие дни, когда вместо джинсов Лена надевала на работу черную, слегка расклешенную ниже колен юбку из матово блестящей тафты-стрейч, можно было пересчитать по пальцам и угадать наперед, сверившись с календарем, висящим на стене в ординаторской. Как правило, в календаре эти дни были отмечены красным. День медицинского работника, Международный Женский День и Новый год.
При условии, что на один из этих дней выпадало ее дежурство в больнице.
В вечных джинсах и с тугим узлом на затылке Лена и сама себе не очень нравилась. Огорчалась порой из-за полнейшего отсутствия романтики в жизни, и даже красила последние два года волосы в белокурый, с платиновым отливом, цвет. Притворялась блондинкой, втайне надеясь, что с помощью тюбика краски ей удастся обмануть природу и начать в один прекрасный день жить какой-то другой, совершенно замечательной жизнью – ажурной, атласной, невесомой, окантованной по краю кружевными оборками и инкрустированной сверкающими стразами. Именно такой жизнью, которой и должна жить нормальная блондинка.
Но от цвета волос, пришлось это признать, жизнь не менялась.
И сама Лена не менялась тоже, оставаясь платиновой блондинкой лишь внешне. Хотя платиновый цвет волос ей очень шел, и это был, пожалуй, единственный положительный момент, оправдывающий регулярные визиты в салон красоты и недешевую стоимость услуг парикмахера. Два новоприобретенных поклонника из числа среднего медперсонала психиатрической больницы не в счет – к служебным романам Лена Лисичкина никогда не относилась всерьез, и уж тем более никогда не мечтала связать свою жизнь с коллегой по работе в «психушке».
В остальном же все оставалось по-прежнему.
В наушниках, которые непременно болтались в ушах, когда она ехала в переполненном автобусе на работу, по-прежнему звучала тяжелая музыка. Надрывно ревели бас-гитары, заходились в почти эпилептическом припадке ударные, аккомпанируя истошным воплям Мерлина Мэнсона или группы «Нирвана», которую Лена полюбила еще, будучи ученицей девятого класса. Не появилось никаких щекочущих душу песенок из репертуара какой-нибудь современной эстрадной поп-дивы, которые, вероятно, полагалось бы слушать Лене, будь она настоящей блондинкой.
В сумке у Лены по-прежнему царил идеальный порядок: кошелек, пудреница с зеркалом, помада, мобильник классической модели, расческа и носовой платок. Ни одной забытой обертки от шоколадки, ни одного использованного талончика, никаких газетных обрывков с номерами телефонов давно позабытых знакомых, а вместо растрепанного, зачитанного до дыр томика любовного романа какой-нибудь западной писательницы – карманное издание сурового Юкио Мисимы в весьма аскетичном исполнении или Павич в мягкой обложке.
В шкафу у Лены Лисичкиной, в связи с ее переходом в категорию платиновых блондинок, не прибавилось ни одной юбки с оборками, ни одной кофточки с намеком на прозрачность, ни одного платья с декольтированным верхом и разрезом до самой линии бедра. «Собранию сочинений» в виде бесконечных джинсов и водолазок мог бы позавидовать любой мужчина, вне зависимости от возраста и цвета его волос.
Да и вообще, если бы не один-единственный пестрый летний сарафан, который Лена купила три года назад и с тех пор надела всего лишь два раза, можно было бы подумать, что этот шкаф с одеждой принадлежит мужчине.
Впрочем, даже и так, с сарафаном, можно было подумать, что шкаф принадлежит мужчине. Просто у этого гипотетического мужчины есть подруга, любимая женщина, которая, второпях убегая домой, забыла свой сарафан у мужчины в шкафу…
«…Стоп! Это что же, получается, она от него без сарафана, в одном белье ушла, что ли?» – Лена застыла посреди дороги, почти всерьез озадаченная этим вопросом.
Кто-то толкнул ее, задев плечом, пробормотав себе под нос будничное ругательство.
С неба падал дождь. Нудный, как зубная боль, он отчаянно барабанил по натянутому над головой куполу зонта. Ветер был сильный, холодный, и налетал порывами, каждый раз собираясь вывернуть зонт наизнанку.
Лена терпеть не могла, когда зонт выворачивался наизнанку. Починить его на месте никогда не получалось – вопреки всем ее усилиям зонт ощетинивался еще сильнее, топорщил в разные стороны металлические иголки, и иногда даже казалось, что сквозь шум дождя можно различить его тихий скрипучий смех.
Это был, в самом деле, какой-то монстр, а не зонт. Лена его даже немного побаивалась, несмотря на вполне безобидную, веселенькую расцветку купола.
Завидев вдалеке нужную маршрутку, Лена добежала до остановки бегом. Места, как всегда, не хватило, но водитель на этот раз попался добрый, разрешил ехать стоя. Всю дорогу Лена провисела в такси на подножке, вынужденная прижимать к себе нелюбимый, холодный и мокрый зонт.
Торопливо бегущие вниз по стеклу капли дождя создавали на его поверхности быстро меняющиеся рельефные узоры. Если бы не полное отсутствие цветной инкрустации – легко можно было бы поверить, что стекло для маршрутки изготавливал по спецзаказу сам Рене Лолик, который ради такого дела воскрес из мертвых. Сквозь эти «фасонные» стекла, запотевшие изнутри, невозможно было разглядеть, по какой улице едет маршрутка, и приходилось то и дело оглядываться назад, неловко выворачивая шею, чтобы не пропустить свою остановку.
Путь от работы до дома был длинный, а еще от остановки потом приходилось идти пешком минут десять. Десять – это если зонт не успеет сломаться, а если успеет, то и все двадцать… В погожие дни она не придавала этому значения, потому что в принципе любила ходить пешком, да и музыка, постоянно звучащая в наушниках, хорошо спасала от скуки. Но осенью, да еще в такую погоду, да еще с этим зонтом, иногда казалось, что путь от остановки до дома идет по нескончаемой спирали.









