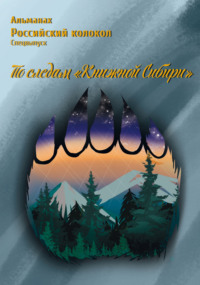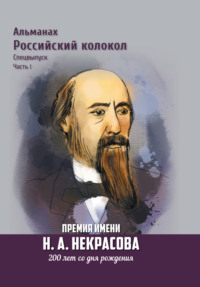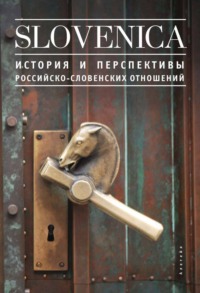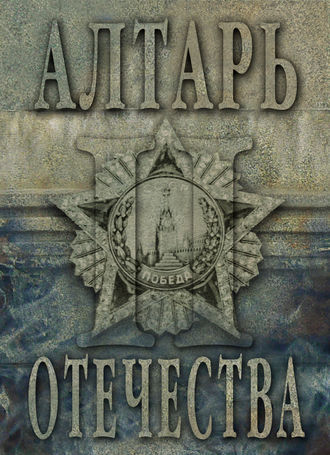 полная версия
полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том II
Это было существенным подспорьем в нашем летнем вегетарианском рационе. А нас с четырёхлетней сестрой Аней частенько подкармливал остатками обеда повар офицерской столовой, которая размещалась в доме нашей тёти Ольги: мы жили в её доме в летние месяцы 1943 года. Его угощенья я, семилетний пацан, добровольно «отрабатывал» тем, что рубил хворост на дрова для печки летней кухни во дворе, где готовились обеды для офицеров.
Осенью 1943 года я пошёл в первый класс начальной школы, расположенной в Беседовке на Крейдянке – так называется часть деревни на склоне меловой горы (мел по-украински крейда). В школе было всего две учительницы, из которых одна исполняла обязанности директора школы, но каждая из учительниц вела занятия одновременно сразу в двух классах – одна в объединенных 1–2-х классах, другая в объединенных 3–4-х классах. Поработав с первоклашками и дав им задание, учительница занималась с второклашками, одновременно контролируя работу первоклашек. На всю школу был один букварь, который был расчленён на отдельные листочки. Первоклашек было человек 7–8, и после уроков этот листочек с заданием переходил из рук в руки по очереди, установленной учительницей, которая организовывала выполнение домашних заданий в стенах школы по типу современной «продлёнки».
Писали на обрывках обёрточной бумаги, на старых газетах чернилами, приготовленными из чёрных ягод бузины. Родители по воскресеньям отправлялись на базар в Старобельске, где у спекулянтов можно было втридорога купить ученические перья и деревянные ручки, газеты, обёрточную бумагу, чернильные таблетки и другие подобные «школьные принадлежности». Зима 1943–1944 года в Беседовке была снежной и морозной, и в свободное от школы время вся деревенская ребятня развлекалась катанием с горок, по льду замерзшей реки Айдар.
После того, как была восстановлена связь с отцом, и он сообщил о том, что хлопочет перед начальством о его возвращении на прежнее место работы в Донбассе, мы по просьбе отца весной 1944 года вернулись в полностью разрушенный посёлок Чехирово.
В это время наш отец, как и многие другие кадровые шахтеры, отозванные по приказу И. В. Сталина с фронта, работал в Мосбассе на шахтах, восстановленных после изгнания немецко-фашистских захватчиков в результате битвы под Москвой зимой 1941–1942 гг. На многие годы основным местом работы отца стала шахта № 29, расположенная на южной окраине города Донской, а первоначальным местом жительства было шахтёрское общежитие в одноэтажном бараке в центре городка. Здесь при коридорной системе в каждой комнате размером 16×18 кв.м. жило по 5 человек таких же шахтёров, как он, была общая кухня и «все удобства во дворе».

Григорий Лошаков.
Но, по рассказам отца, в общежитии шахтёры бывали мало. В те годы на шахтах Мосбасса был введён режим военного времени с удлинённым рабочим днём и часто без выходных, с многочисленными ДПД – днями повышенной добычи, посвящёнными различным государственно-политическим праздникам: 1 мая, 7 ноября, дням рождения вождей, Дню конституции и т. п. После разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой и Сталинградом появилось много немецких военнопленных, и многих из них отправили работать на шахтах Подмосковного угольного бассейна. Вокруг города Донской было несколько лагерей для пленных немецких солдат, и эти военнопленные в те годы были основной рабочей силой на шахтах треста «Донской уголь». Был такой лагерь и в самом городе, около базара.
Из пленных немцев формировались рабочие шахтерские бригады во главе с горным мастером – бригадиром из числа советских кадровых шахтеров. В первое время работы на шахте № 29 такую бригаду немецких рабочих около 30 человек возглавлял и отец. И у его бригады в то время, как и у многих других таких же бригад, был особый режим работы и жизни. Ранним утром понедельника сотни военнопленных немцев колонами под военным конвоем и под стук деревянных подошв башмаков выводились из лагеря и разводились по шахтам. Здесь они под началом своих бригадиров спускались в шахту на свои участки и оставались там до конца недели. На участках под землёй для них были оборудованы спальные места, душевые, в шахте они обеспечивались трехразовым горячим питанием из шахтерской столовой (пища и питьевая вода спускались в шахту в контейнерах-термосах военного образца).
Вместе с немецкой бригадой всю неделю в шахте оставался и бригадир. Рабочий график такой бригады строился так, что в течение суток они работали по 12–14 часов, разбитых на три рабочих цикла по 4–5 часов, прерываемых одночасовыми перерывами для приёма пищи и отдыха. К концу субботнего дня бригада поднималась на-гора, немецкие военнопленные строились колонной и уводились под конвоем в лагерь для воскресного отдыха, а бригадир – мой отец, «бежал» отдыхать в общежитие. В понедельник с утра всё начиналось сначала: отец за полчаса «пробегал» (проходил быстрым шагом) трёхкилометровую дистанцию от общежития до шахты № 29, обгоняя идущую туда же колонну военнопленных, где принимал по счёту от конвоиров своих подопечных и спускался с ними снова на неделю в шахту.
Такой режим работы сохранялся на шахте довольно долго, но вскоре отец после краткосрочных курсов повышения квалификации в Учебно-техническом комбинате получает повышение: его назначают начальником подготовительного участка на той же шахте № 29.
Став начальником участка, отец перешёл на совершенно новый режим работы, который до сих пор поражает меня своей напряженностью и изнурительностью, сохранявшимися и в послевоенное время.
В обязанности начальника участка шахты входило участие в проведении им всех трёх сменных нарядов, которые проводились с мастерами смен и другими помощниками начальника участка. На шахте смены начинались в 00 часов ночью (первая смена), в 8.00 – вторая смена и в 16.00 – третья смена.
За час до начала каждой смены шахтерские бригады должны были получить задание на смену, спуститься в шахту и приступить к работе на участке. К этому часу надо прибавить ещё полчаса, чтобы от дома «пробежать» 3 км до шахты. Чтобы поспеть к утреннему наряду, на вторую смену, отец просыпался в 6.00, на скорую руку собирался, завтракал, в 6.30 выходил из дома и скорым шагом в 7.00 приходил на шахту, проводил наряд и на всю смену вместе с шахтёрами спускался в шахту.
Под землёй он выяснял состояние дел на своем участке, решал текущие вопросы, уточняя задание для работающей и последующей смены, помогал горным мастерам (бригадирам) в решении тех или иных производственных вопросов на месте. Из шахты он поднимался на-гора за 1,5–2 часа до начала 3-ей смены, чтобы перед проведением наряда успеть встретиться с начальником шахты, главным инженером, другими руководителями и специалистами шахты и решить с ними вопросы, касающиеся работы его участка. В 15.00 начинался наряд для 3-ей смены, после окончания которого смена к 16.00 спускалась в шахту, а начальник участка оставался на поверхности, оформлял всевозможную документацию (нарядные, табельные, больничные листы, заявки на крепёжные, строительные и другие материалы, отчёты по их использованию, планово-финансовые и прочие документы).
Закончив, по его выражению, «писанину», отец сдавал всю документацию в «контору» (бухгалтерию) и где-то около 19.00 возвращался домой, ужинал и ложился на пару часов поспать. В 22.30 он уже выходил из дома и бежал на шахту проводить наряд для 1-ой (ночной) смены. Закончив наряд ночной смене, он к часу ночи возвращался домой, спал до 6.00, а в полседьмого утра уже бежал на шахту давать утренний наряд. И так непрерывно многие месяцы и годы подряд, исключая месяц отпуска, который он начал получать лишь в послевоенные годы и проводил обычно в санатории для лечения хронического радикулита, силикоза, «добытых» им ещё в первые годы работы в шахте.
Всё это я и другие члены нашей семьи узнали от отца потом, когда закончилась война, и отец смог вновь соединиться со своей семьёй. И в редкие минуты свободного времени он рассказывал нам о своей работе во время войны. А в далёкие годы военного лихолетья мы почти два года ничего не знали о своём отце, точно также как и он о своей семье. И только в начале 1944 года через родственников он нашёл нас в своей родной деревне Беседовка около г. Старобельска.
В условиях военного времени как мобилизованный на шахты Мосбасса отец не смог даже на короткое время приехать к нам на Украину. Узнав, что его родная шахта № 14 в Донбассе восстанавливается, он начал хлопотать перед начальством Мосбасса и перед Наркоматом угольной промышленности западных районов СССР о его переводе на прежнее место работы и по месту жительства семьи, в Донбасс. И чтобы его просьба была убедительнее, попросил маму переехать с семьёй из деревни на прежнее место жительства, в посёлок Чехирово при шахте № 14, что мы и сделали весной 1944 года.
Но в посёлке после военного смерча не осталось ни одного целого дома. Лишь на местном кладбище чудом сохранилась и пустовала кладбищенская сторожка, которую и заняла наша семья. Два с половиной года мы жили среди могил, заброшенных за годы войны. А рядом с кладбищем, через балку, уже работал вспомогательный ствол шахты № 14, дававшей стране бесценный антрацит – красавец уголь! Главный ствол шахты ещё не работал, так как были сложности с его восстановлением после затопления и взрыва перед приходом гитлеровцев – оккупанты так и не смогли его восстановить, и начать добычу угля на шахте глубиной больше одного километра!
В момент нашего возвращения на шахте был острый дефицит рабочей силы, поэтому уже через несколько дней после возвращения из деревни мама и старшая сестра устроились на работу на шахте: мама на погрузке угля на шахтном дворе, а сестра была принята учеником машиниста подъёма. Как рабочие шахты они получили продовольственные карточки на хлеб, сахар, масло, крупы и другие продукты на себя и на иждивенцев: на меня с младшей сестрой. Рабочим по карточкам полагалось 700 г. хлеба в день, иждивенцам – 400 г.
К этому времени стало налаживаться продовольственное снабжение, появилась государственная торговая палатка, шахтёрская столовая, а потом и магазин, в котором можно было отоваривать карточки. Жизнь стала налаживаться, но особенно улучшилась она после того, как мы на прилегающем к кладбищу поле вырастили и убрали в 1944 году свой урожай зерна пшеницы, кукурузы, подсолнечника, фасоли, гороха, тыквы, картофеля, капусты, огурцов и других овощей, на заработанные на шахте деньги купили козу. В магазине по карточкам периодически стали давать американские продукты: мясную тушёнку, молочную сгущёнку, яичный порошок, а также промтовары – детскую одежду, обувь и пр. Всё это распределялось среди населения по карточкам и талонам.
В шахтёрском посёлке Чехирово начали строить жилые дома, построили общежитие для завербованных в республиках Средней Азии молодых шахтёров. Начала работать в специально построенном здании поселковая начальная школа, куда меня мама тут же определила во второй класс. Открылся летний кинотеатр, где нам, пацанам, можно было через заборную щель или с высокого дерева посмотреть бесплатно интересные кинофильмы.
Но у меня на такие развлечения времени было мало, так как с 8-летнего возраста на меня легли серьёзные домашние заботы. В отсутствии мамы и старшей сестры – они уже работали на шахте – надо было присматривать за 5-летней младшей сестрой Аней. Нужно было обеспечивать печку углём и дровами, собирая их среди отвалов пустой породы на шахтном дворе и перетаскивая их на себе домой через балку – глубокий овраг, поросший лесом, и отделявший наше кладбище от шахты. Наколоть дров, разбить топором большие глыбы угля на мелкие кусочки, растопить печку, натаскать воды из колодца, вскипятить её в большом чугуне было тоже моей обязанностью.
Чтобы как-то облегчить свою работу по доставке угля и дров с шахты, я увлечённо занимался изобретением и постройкой тачки из подручных материалов, но это плохо получалось, так как я долго не мог найти подходящего колеса. Однажды на шахте я всё-таки нашёл такое колесо и стал делать тачку. Для того чтобы укрепить ось с колесом в нижней части продольных деревянных брусьев тачки, надо было на конце каждого из брусьев под ось сделать отверстие, выжигая его раскалённым болтом. Раскалив в печке подходящий для этой цели болт докрасна, я подхватил его щипцами и стал подносить к месту прожигания. В это время болт вильнул и готов был выпасть из щипцов. Чтобы этого не произошло, я невольным движением левой руки подставил её тыльной стороной ладони под раскалённый болт и взвыл от боли. Глубокий и длинный ожог долго не заживал и мучил меня постоянными болями, его несколько месяцев лечили всевозможными мазями. В конце концов, он зажил, а на тыльной стороне левой ладони руки и сейчас можно видеть следы моего «детского технического творчества».
Но особенно трудным и мучительным моим занятием была пастьба наших коз. На всю жизнь у меня за три летних пастбищных периода об этих животных осталось впечатление как об очень хитрых и неукротимых тварях, хотя они и обеспечивали нашу семью молоком. Казалось, что у нашей Нинки – так звали первую, старшую козу – было только одно на уме: незаметно удрать из стада, забраться в огород, всё там сожрать и истоптать. И уследить за этой козой-хитрюгой было сверх моих мальчишеских сил.
Под стать матери были и её дети, среди которых выделялся сын-цап (козёл) Борька, которого я по своей мальчишеской неосмотрительности научил бодаться. И когда Борька через год заматерел и из милого козлёнка превратился в грозного бодливого козла, от него убегали и взрослые, и дети. Единственное, чего он боялся, так это хлёсткого, с потягом, удара длинным кнутом из сыромятной кожи.
Но однажды Борька стал виновником одного происшествия, которое вполне могло закончиться трагически, и в конечном итоге стоило козлу-забияке его жизни.
Рядом с нашей сторожкой на кладбище в землянке жила другая семья – женщина с мамой-старушкой и четырёхлетней дочкой. Зимним солнечным днём мама выпустила свою маленькую дочь погулять. Девочка была одета в какой-то длиннополый пиджак, подпоясанный ремнем. Так вот наш Борька умудрился за этот ремень поддеть девочку на рога и долго как куклу таскал её по двору, пока взрослые, выбежавшие на крик смертельно перепуганной девочки, не сняли её с рогов. Был грандиозный скандал, и судьба Борьки была решена: пришёл какой-то хромоногий мужик и зарезал его на мясо. Несколько месяцев мы, благодаря Борьке, наслаждались сытной мясной жизнью. А в нашей семье многие годы напоминал об этом забияке и о нашем военном детстве прикроватный коврик, сделанный из его шкуры с белой длинной шерстью.
Другим довольно неприятным воспоминанием о моих «взрослых» занятиях военного и послевоенного детства осталась история с табаком и курением. Наша мама выращивала, сушила и готовила на продажу тютюн – табак-самосад. Это был дополнительный источник средств для содержания семьи. Пастух, у которого я был в подпасках, молодой и, как я теперь понимаю, развратный парень, научил меня курить, воровать у матери и таскать для него табак. Во всём подражая ему, я с 8 лет курил самокрутки, по-взрослому ругался и оглушительно «стрелял» – щёлкал длинным кнутом, гоняясь босиком целый день по выжженной степи за коровами, телятами и шкодливыми козами, пока мой «шеф» в тенистой балке отсыпался после ночных похождений с местными девчатами. Я настолько был увлечён таким «взрослым» образом жизни и привык к курению, что в отсутствие табака начал собирать окурки около общежития молодых шахтёров, приехавших из Средней Азии.
Мне было уже 10 лет, когда жаркой осенью засушливого 1946 года я в очередной раз насобирал окурков, спрятался в лесополосе, тянувшейся вдоль железной дороги, из окурков выпотрошил их содержимое и сделал цыгарку-самокрутку. Я закурил, успел сделать только две затяжки и… потерял сознание.
Очнулся я в лесополосе, лёжа на спине, где-то перед заходом солнца, пролежав без сознания не менее 3 часов. Рядом лежала погасшая самокрутка, в голове стоял туман, в ушах звенело. Я сначала не понимал, где я и что со мной. Потом всё вспомнил, и на память пришли также разговоры в посёлке о том, что шахтеры из Средней Азии курят какой-то гашиш, который веселит их не хуже самогона. И я понял, какого «тютюна» я накурился. Я ещё полежал некоторое время, пока смог встать, и уже в сумерках с трудом добрался до нашей сторожки на кладбище.
Это произошло со мной 65 лет тому назад, но стало хорошим уроком на всю жизнь. С тех пор я никогда не курил, с трудом переношу запах дыма, когда рядом кто-то курит, и никак не могу смириться с тем, что мой сын стал курильщиком. Первые годы я часто с ужасом вспоминал тот случай, долго никому из домашних о нём не рассказывал, и они узнали об этом жестоком уроке только тогда, когда я стал взрослым и однажды рассказал обо всём.
Солнечным утром 9 мая 1945 года мы проснулись в своей кладбищенской сторожке от радостных возгласов нашей мамы, которая возвращалась из магазина, нагруженная продуктами и промтоварами, и сообщила нам об окончании войны. И целый день был радостный праздник в соседнем посёлке Тоштовка с митингом, музыкой, песнями, танцами. И снова ожила надежда, что мы скоро увидим своего отца. А от него с каждым письмом приходила одна и та же неутешительная весть: ему в очередной раз отказали в просьбе о переводе на работу в Донбасс.
К тому же зимой 1946 года мама перенесла тяжёлую операцию – в результате заболевания щитовидки ей в больнице г. Ворошиловграда пришлось удалять зоб: качественное образование величиной с гусиное яйцо на шее под подбородком, и при операции были задеты жизненно важные центры. Сказались напряженные военные годы, бесконечные стрессы в борьбе за выживание семьи, голод, тяжёлый труд на погрузке угля, на огороде, и после операции она стала инвалидом на всю жизнь. А тут ещё объявился прежний хозяин кладбищенской сторожки, и нас стали выселять из неё чуть ли не под открытое небо.
Встревоженный этими обстоятельствами и получив очередной отказ о переводе в Донбасс, отец принимает решение забрать семью к себе в г. Донской. И получив, наконец, первый свой послевоенный отпуск, летом 1946 года, в разгар засухи на Украине, он приезжает в Донбасс за семьей.
Конечно, трудно описать радость той встречи, которую мы ждали долгих четыре года. Мы были все счастливы и радостно стали собираться в дорогу. Особых пожитков у нас не было, но в хозяйстве за три года у нас появилось несколько коз, которые обеспечивали нас молоком и мясом. С грустью и сожалением мы распродали свое козье стадо, и в сентябре 1946 года через станцию Попасная выехали всей семьёй в город Донской, который тогда вместе с городом Сталиногорск (теперь это город Новомосковск) входил в состав Московской области как стратегически важные для столицы угольные центры.
Сейчас пассажирский поезд расстояние от станции Попасной до Москвы проходит за 16–18 часов. В тот же первый послевоенный год скорости были совсем иные. Во-первых, нам нужно было ехать не до Москвы, а до станции Узловая, что в 10 км от г. Донского и на 180 км южнее Москвы. Во-вторых, прямого поезда до Узловой, а тем более до Донского от станции Попасной не было. И мы ехали с пересадками так называемыми «рабочими поездами» – предшественниками современных пригородных электричек – с многочасовыми ожиданиями нужного поезда на пересадочных станциях. Из Попасной мы выехали 17 сентября, а в Узловую приехали 24 сентября, то есть в дороге мы были целую неделю. И для отца была проблема: целую неделю прокормить семью из пяти человек, когда продукты можно было купить по баснословным коммерческим ценам только у спекулянтов на привокзальных рынках. И за эту неделю у отца растаяли почти все денежные сбережения, которые он копил несколько лет.
Уехали мы из выгоревшей, иссушённой жестокой засухой донецкой степи, а приехали в благоухающий зеленью лугов и золотом лесов подмосковный край. В день нашего приезда моросил мелкий осенний дождь, от Узловой до Донского почему-то никакого транспорта не оказалось. И было принято решение добираться до Донского пешком вдоль железнодорожного полотна, так как никакого тяжёлого багажа у нас с собой не было – все наши скудные пожитки были в сундуке, который мы отправили отдельным багажом медленной скоростью. Потом, через месяц, мы получили этот сундук, наполовину разграбленный в долгой дороге.
А в тот хмурый сентябрьский день мы шли тропинкой среди свежей зелени придорожной травы, наслаждались прохладой и свежестью влажного воздуха, так непривычного и приятного после южного иссушающего зноя. Через три часа мы добрались до маленького городка Донской и пришли в шахтёрское общежитие, где в комнате вместе с отцом жило ещё четыре шахтёра. С помощью простыни был отгорожен один угол, и за этой импровизированной ширмой каким-то чудом разместилось всё наше семейство.
Здесь мы ютились всего неделю, потешая наших новых соседей украинской речью. Почему-то их приводили в восторг такие слова, как «цибуля», «цукор», «пошукать», «сокира», «шо ты робышь?» и другие. А одно из них, услышанное местными мальчишками от старшей сестры в мой адрес – «Володя, принеси сокиру», – стало для меня в мальчишеские годы дразнилкой-прозвищем – «секир-башка».
Через несколько дней после приезда в г. Донской я уже пошёл в школу – в 4-й класс Донской средней школы № 1. Помню, как на одном из первых уроков классная руководительница Ольга Сергеевна Потапова попросила меня пересказать сказку А. С. Пушкина о попе и его работнике Балде. И весь класс смеялся и долго не мог успокоиться после моего начала: «Пишов поп по базару пошукать кой-якого товару…». И до сих пор мои друзья-одноклассники при встрече вспоминают эти забавные эпизоды из первых лет моей школьной жизни в г. Донской.
Не успели мы отдышаться от изнурительной дороги, как нашу семью на новом месте постиг большой удар. Через несколько дней после нашего приезда в Донской отцу, наконец, пришло разрешение на его перевод с шахты № 29 треста «Донской уголь» на шахту № 14 в Донбассе. Этого перевода он добивался больше 2 лет. Трудно передать состояние наших родителей после получения этого известия, особенно отца, который буквально посерел и долго не мог оправиться от пережитого потрясения.
Но назад уже хода не было: не было ни средств, ни желания ещё раз испытать «прелести» недельного переезда. Да и никто настам в тот засушливый и голодный 1946 год и не ждал: не было ни жилья, ни близких людей, ни друзей. Через неделю нашего пребывания в г. Донском нам дали комнату в бараке около базара и рядом с лагерем для военнопленных немцев. Мы перезимовали в этом бараке, испытав все знакомые уже нам «прелести» барачной жизни с насквозь продуваемым и обледенелым коридором, постоянно чадящим печным отоплением и всё теми же всеми удобствами во дворе. Весной 1947 года нашей семье улучшили жилищные условия: дали две комнаты в трёхкомнатной квартире в двухэтажном бараке, рядом с прежним бараком.
И мы навсегда остались в городе Донской, небольшом шахтёрском городке, который стал для нас второй малой Родиной. Здесь мы – мои сестры и я – выросли, получили образование, обе сестры вышли замуж, родили и вырастили детей, которые стали достойными людьми. Здесь моя родная Донская средняя школа № 1, которую я окончил в 1953 году, и из которой шагнул в интересную и содержательную жизнь, поступив в том же году в Тимирязевку, лучший сельскохозяйственный вуз страны.
Но это уже совсем другая история.
В. Г. Лошаков, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук. Октябрь 2011 года.Раиса Сергеевна Лунева

Главное дело моей жизни
Москва – мой самый любимый и родной город. Это – моя колыбель, мои юность и отрочество, мои университеты и, наконец, щедрая пора зрелости. Как одновременно много и мало прожито. Но зато как вместительно оказалось прошлое: событиям, поездкам, встречам нет числа… Воспоминания мелькают как в калейдоскопе, они настолько будоражат, что сердце начинает учащённо биться, а душа – как будто отделяется от тела и улетает невесть куда.
Я родилась на 43-ий день фашистского нашествия. Папа, ЦВЕТКОВ Сергей Иванович (это и моя девичья фамилия) уже был на фронте. Он был высококлассным специалистом и воевал на Северном флоте старшим техником по оптике на подводной лодке. Для него это была третья война, после «финской» и «польской». Впоследствии он частенько рассказывал нам, своим дочерям, о «дороге жизни», по которой вывозили из Ленинграда эвакуированных, о том, как под вражескими бомбами взрывались грузовики, плотно заполненные детьми, и скрывались в тёмной ледяной воде Ладожского озера.
Мама, коренная москвичка, имевшая на руках двух дочерей девяти и одиннадцати лет и ожидавшая моего появления на свет, отказалась от эвакуации.