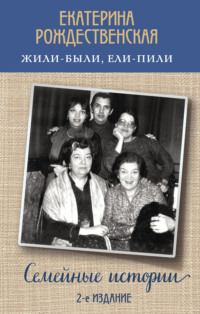Полная версия
Зеркало
– Помогай бог трудиться! – произнесла она первым делом, войдя в комнату. – А баньки-то нет натопленной?
– Нет, Семеновна, – вздохнула Наталья Матвеевна.
– На нет и суда нет, это я так, к слову спросила. Мужа-то я вашего вон отправила, вы уж меня извините, ни к чему ему быть там, где бабы свои дела делают, – сказала она, расстелив на зеркальном столике простынку, поставив сверху таз с полотенцами и приткнув какие-то отвары в склянках.
– Болит, часто уже болит, сил нет, передохнуть не могу, – начала жаловаться Сонечка.
– Сердечко хорошее и у мамаши и у ребеночка, все в порядке, Семеновна, – дал свое заключение доктор, – скоро должна разрешиться.
– Ну и славно, вы уж идите, батенька, я дело свое знаю, лишние глаза мне тут не нужны, – сказала она ему.
Тот, давно зная Семеновну, послушно вышел, словно получил приказ свыше. Семеновна подошла к Сонюшке, внимательно на нее посмотрела, что-то прикинула, закатив глаза, потом окропила Соню святой водой, а в головах поставила свою старую намоленную икону Божьей матери да свечку восковую зажгла перед ней. Уж сколько икона эта видела детишек, только что вынутых из теплого материнского чрева, никто и не считал, но Семеновна без нее на роды даже и из дому не выходила. Помолилась перед ней, тихо нашептывая и не обращая внимания на стоны роженицы, потом всю её просмотрела, ноги намяла, живот пощупала.
– Ну что, мальчонке имя-то придумали? – спросила она Соню.
– Мальчик? У меня будет мальчик? – обрадовалась Сонюшка.
– Да ты и девке была бы рада! А будет малец, точно малец, по всем признакам. Давай-ка теперь волоса распустим. – Она начала вытаскивать длинные шпильки из Сонечкиной новогодней прически, распустив по подушке шикарные рыжие, так тщательно завитые утром кудри. – Кольца снимай, украшения все, рубаху распахни, узел-то на шее развяжи, ишь! А вы, Наталья, идите все замки да лари отворите, двери в комодах приоткройте, чтобы ребеночек без затруднений вышел!
– Крестик я оставлю, можно? – робко спросила Соня.
– Всё снимай! Крестик в руку возьми, остальное на зеркало положь. Давай еще разок проверим, как ребятеночек.
Семеновна захлопотала у ног Сони, та вскрикнула.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.