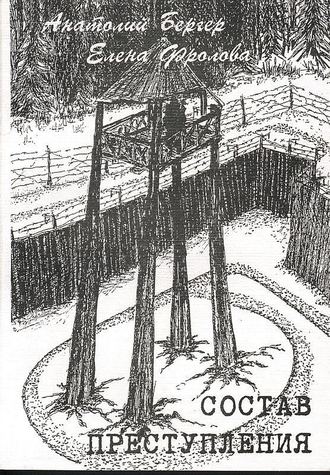 полная версия
полная версияСостав преступления (сборник)

Анатолий Бергер, Елена Фролова
Состав преступления
© А.Бергер, текст, 2011.
© Е.Фролова, текст, 2011.
© В.Киселев, рисунок обложки, 2011.
© Юолукка, 2011.
Анатолий Бергер
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания – наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.
Уголовный кодекс РСФСР
«Кнут солёный, жаровня, дыба …»
Кнут солёный, жаровня, дыбаДа скрежещет перо дьяка,И за то, знать, Руси спасибо,Что стоит на этом века.Что её – волчий взгляд Малюты,Беспощадная длань Петра,И гражданские злые смуты,И советских казней пора.Что сынов её – пуля-слава,Вышка лагерная – судьба,И приветствовала расправыРаболепная голытьба.Но сынам ли считать ушибы,Им ли слёзы лить на Руси?Ох, спасибо же ей, спасибо,Спаси Бог её, Бог спаси.Декабрист
Отчизны милой Божья суть,Я за тебя один ответчик,Легко ли мне себя распнутьТой, царской, площадной картечью?Легко ли на помосте томС петлёю скользкою на шееЛовить предсмертный воздух ртом,От безысходности шалея?Легко ль в сибирских тех снегах,В непроходимых буреломахЗнать, что затерянный мой прахНе вспомнит, не найдёт потомок?Легко ль провидеть, что пройдутГода, пребудут дни лихие,Нас вызовут на страшный судДел, судеб и мытарств России,И нашим именем трубя,На праведном ловя нас слове,Отчизна милая, тебяЗатопят всю морями крови.Свободу порубив сплеча,Безвинных истребят без счёта,И снова юность сгорячаВозжаждает переворота.Легко ль нам знать из нашей тьмы,Когда падёт топор с размаху,Что ей пример и вера мы,И мы же ладили ей плаху.1966Эмигрантам
Вот надписи надгробий,Посмертная трава,Родной земли подобье,Но нету с ней родства.В её круговоротеСреди ростков, корней,Пути монаршей плотиИ голубых кровей.Изгнанья жребий страшен —Кровь между строк видна:«За честь России павшимВ крутые времена»,Когда в слепом размахе,Сжигая всё дотлаС наганом и в папахеСудьба России шла,Лихи её порядки —Нужда, неправда, тьма,А побеждённым в схватке —Чужбина, смерть, тюрьма.Пришлось с чужим народом,В чужом варясь котле,«Под чуждым небосводом»И на чужой землеИспить Христову чашу…Но светят строки те:«За честь России павшим…» —На мраморной плите.1966«Народовольческую дурь …»
Народовольческую дурьЗабудь, великая держава,Побалагань, побалагурь,Твои ведь сила, власть и право.Ничьё перо уж не клеймитУстои нового порядка,Сей грандиозный монолитНе тронет пуля иль взрывчатка.Нет прокламаций, баррикад,Нет эшафота над толпою,Пустеет грозный казематНад невской сумрачной водою.Колоколам уж не греметь,И церковь изредка маячит,Монарх, преображённый в медь,Навек теперь в былое скачет.Всё, как написано в трудахВождей и доводы на всё есть —Сперва за совесть, не за страх,Потом за страх, а не за совесть.Зато ни штормов и ни бурь,Хоть лагеря, расстрелы, пытки…Что ж, не ропщи, ведь ропот – дурь,России прошлой пережитки.1966Народное
Раскулачили страну —Хоть в кулак свисти,И на ком искать вину,Господи прости!Нависали над странойГрузные усы,Стал грузин всему виной,Господи спаси!Русь в бараний рог согнул,Страхи да суды,Дым заводов, грохот, гулСтройки и страды.Всё на жилах кровяных,На седьмом поту,Сухарях да щах пустых —Аж невмоготу.Коли слово поперёк —Умолкай в земле,Властью был отвергнут Бог,Идол жил в Кремле.Ох, Россия, край-беда,Смутен путь и крут,И тридцатые годаЗа спиной встают.1966«Твою красу святую …»
Твою красу святуюВ те дни предав огню,Ярясь, напропалуюГубили на корню.На всю страну, в охоткуЕй вышибая дух,Надсаживая глотку,Тот красный пел петух.И в пламени и вое,Свершая самосуд,Шёл с пьяной матроснёюМужицкий тёмный люд.Над родиной сожжённойГлумясь, как упыри,Рубили в прах иконы,Крушили алтари.Ломили до победы,Костили, били, жглиВсё то, что их же дедыКогда-то возвели.1968«Эсеровский переворот …»
Эсеровский переворотВоенною грозой гремел,В нём стук копыт и пуль полёт,Атаки крик и артобстрел.В глухой ночи штыки застав,На тёмных улицах войска,В руках восставших телеграф,Электростанция, ЧЕКА.И поруганью предан Брест,Вожди эсеров у руля,И взят Дзержинский под арест,И час до взятия Кремля.Неужто ночь и пушек гром —Судьба России на века?Под чьим ей гибнуть сапогом —Эсера иль большевика?1968Памяти Клюева
Страну лихорадило в гулеСтрады и слепой похвальбы,Доносы, и пытки, и пулиЧернели изнанкой судьбы,Дымились от лести доклады,Колхозника голод крутил,Стучали охраны приклады,И тесно земле от могил.И нити вели кровяныеВ Москву и терялись в Кремле,И не было больше РоссииНа сталинской русской земле.И Клюев, пропавший во мракеСоветских тридцатых годов,На станции умер в бараке,И сгинули свитки стихов.Навек азиатские щёлкиЗажмурил, бородку задрав,И канул в глухом кривотолке,Преданием призрачным став.1967«Бессеребренник-трудяга …»
Бессеребренник-трудягаВ полинявшем пиджачкеИ без курева – ни шагу,Ты со мной накоротке.И с глубокою затяжкой,Весь в мутнеющем дымуО былой године тяжкойГоворишь мне потому,Что кровавой крутовертьюБыл закручен и кругомВидел страх, аресты, смерти,Ложь на истине верхом,И усатого владыкиКостоломный стук подков,И как все его языкиСлавили на сто ладов,Слышал. И руками машешь,С криком дёргаешь плечом,Весь в дыму и пепле пляшешь,Что, мол, сам был ни при чём,Что пора минула злая,И враги клевещут, лгут,Что нельзя судить, не зная,Есть на то партийный суд,Что вернуться к прошлым вехамНе придётся. Стон умолк,Но сломать хребтину чехам,Как сломали венграм – долг,Что глупа к свободе тяга.Вновь рассыпался в рукеВ прах окурок. Эх, трудягаВ полинявшем пиджачке.1968«Знаю, дней твоих, Россия …»
Знаю, дней твоих, Россия,Нелегка стезя,Но и в эти дни крутыеБез тебя нельзя.Ну, а мне готова плахаДа глухой погостВо все дни – от МономахаИ до красных звёзд.И судьбины злой иль милойМне не выбирать,И за то, что подарила —В землю, исполать.Кто за проволкою ржавой,Кто в петлю кадык —Вот моей предтечи славыИ моих вериг.Не искали вскользь обхода,Шли, как Бог велел,И в преданиях народаВысота их дел.Погибая в дни лихиеОттого в чести,Что не кинули, Россия,Твоего пути.1967«Мне советской не надо славы …»
Мне советской не надо славы,Я ищу на неё управыЗа лихие её дела,За растленное ею слово,За распятье всего живого,За сердца, что выжгла дотла.За ночные слепые страхи.Те – смирительные – рубахи,Смертный мрак наведённых дул,И глумящихся толп разгул.Да, крутые у нас с ней счёты,Рассудили бы нас пулемёты,Но не равен уж больно спор,У неё – лагеря, ракеты,Подставные суды, газеты,У меня – лишь строка в упор.1968СПРАВКАПостановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1990 года приговор Ленинградского городского суда от 15 декабря 1969 года в отношении Бергера Анатолия Соломоновича 1938 года рождения отменён и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
Гр. Бергер А.С. по настоящему делу реабилитирован:
Председатель Верховного Суда РСФСРВ.М.ЛебедевАрест
Та весна мучила недаром. В душе была недосказанность и смута; я говорил друзьям, что меня одолевают предчувствия. А стихи шли удачно, светло, будто вернулся 1962 год. Это меня и настораживало: песня давней той поры оборвалась на армейском плацу; затерялась в свисте заполярных метелей. Притом каждый стих даже интонацией звучал, как пророчество. В довершение – десятого апреля мне приснился сон страшный, как беда. Привиделось, что я в своей комнате обнаруживаю снаряд и с маху выбрасываю его в открытое окно. На улице раздается взрыв, крики, стон, и я с ужасным замиранием сердца жду расплаты. Проснулся я, как потерянный, и целый день ходил с камнем на сердце. Я рассказал об этом сне отцу, матери, потом жене. Но как быть с предчувствиями? В них загадки, а не разгадки.
Ни стихи, ни сны ничего не могли поделать. Проклятая реальность была за углом.
Пятнадцатого апреля в квартирную тишину утра ворвался звонок. Вошедшие люди – они были тёмные и глухоголосые – заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд – огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.
Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я ещё не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.
Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди, и хлопающие двери были как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других – о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдалённо! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой – белобрысый в модной японской куртке – вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном чёрном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился. Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал. Я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных. И главное – я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!
Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное – и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.
Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.
Дорогой я просился в туалет, а конвойные отвечали, что там есть всё. Я ещё не понимал тогда, что это значит. Шли мы гулко, временами слышался по сторонам скрежет. Стали подыматься наверх. Железная лестница дрожала от каждого шага. Наконец, мы остановились. Один из конвойных вынул связку тяжёлых ключей. Тайна скрежета в коридорах открылась мне.
Я впервые в жизни увидел тюремную камеру. По стенам стояли две койки. На одной из них лежал человек. Маленькое окошко было зарешечено, а изнутри ещё прикрыто какой-то вертушкой вроде вентилятора. Под окном в стенной выемке выпукло виднелись трубы отопления, и слева от них чернел стульчак туалета. Дверь задвинулась, проскрежетали ключи, чёрный глазок в двери мелькнул человеческим глазом и снова закрылся. Сокамерник привстал на койке. Он был лыс и печален. Я спросил: «Как, туалет прямо здесь?» Он грустно подтвердил. Затем освободил мне табуретку, чтобы я смог повесить свою одежду. Мы не сказали двух слов, как открылась впадина под глазком и лицо надзирателя, показавшись в железном прямоугольнике, сердито покосилось на нас и, сказав: «Отбой. Кончай разговоры!», исчезло. На моей койке не было белья. Она серела в тусклом свете голой лампочки, торчащей над дверью. Я лёг и уставился на лампочку. Шла первая ночь заточения.
«Что случилось, что же случилось…»
Что случилось, что же случилось —С телом впрямь душа разлучиласьВ ту проклятую ночь, когдаБила в колокола беда,И железно койка скрипела,И краснела лампа, дрожа,А душа покинула тело —Не увидели сторожа.И ключи в замках громыхали,И гудели шаги вокруг,Чьи-то шёпоты то вздыхали,То опять пропадали вдруг…1974Лене
Вышла замуж за тюрьмуДа за лагерные вышки —Будешь знать не понаслышке —Что, и как, и почему.И в бессоннице глухой,В одинокой злой постелиТы представишь и метели,И бараки, и конвой.Век двадцатый – на морозМарш с киркой, поэт гонимый!Годы «строгого режима»:Слово против – дуло в нос.Но не бойся – то и честь,И положено поэтуВынести судьбину эту,Коль в строке бессмертье есть.Только жаль мне слёз твоихИ невыносимой болиОт разлучной той недоли,От того, что жребий лих.1970Двенадцать сокамерников
У меня было двенадцать сокамерников – один за одним, правда, как-то раз двое вместе. Это за время следствия и после – до отправки в лагерь. На пересылке случались другие, но ненадолго. В тюрьме же всё было внове и запомнилось жёстче.
Самый первый – Владимир Абрамович С., полноватый человек средних лет, лысый, с мягким печальным взглядом. Встретил он меня по-доброму, подвинул мне табуретку, на которую я повесил одежду, – наступала уже ночь. Наутро мы разговорились. Он служил администратором Ленконцерта, был любителем книг и женщин, жил в своё удовольствие один. Таких я встречал в жизни не раз. Как-то так совпало, что и Ходасевича он ценил, и Замятина, и стихами моими стал восторгаться, всё это меня к нему расположило, и советам его я внимал с открытой душой. Да и что с меня взять – с новичка, только что глотнувшего сырой воздух кэгэбешной камеры и полузадохнувшегося. Поэтому его уговоры смириться, раскаяться, быть откровенным, сохранить себя, сберечь для грядущего творчества – его уговоры достигали цели. Только потом я понял, что не зря он сидел со мной, не зря оказался первым, не случайно любил Ходасевича, как и я (что следствию было известно).
Да и «легенда» его, говоря по-тюремному, была шита белыми нитками, но я, ещё не вооруженный зэковским зрением, этого не углядел. Он, по его словам, в букинистическом магазине на Литейном познакомился с американцем, собирающим прижизненные издания русских классиков, разговорился, вызвался помочь что-то там приобрести. Встретились, пошли гулять по набережной Невы неподалеку от Горного института и там, у гранитного парапета, попросил американец Владимира Абрамовича сфотографировать его на память, протянул свой превосходный фотоаппарат. Только он приладился – бац, набежали дружинники, схватили Владимира Абрамовича, вырвали фотоаппарат, от которого американец тут же отрекся в пользу, так сказать, своего нового друга, и повели под белы рученьки в тюрьму. Зачем снимал военный объект (там Балтийский завод торчал вдалеке) и вообще зачем с иностранцем по городу ходит? Записную книжку отняли, а у всякого интеллигента записная книжка —
готовое свидетельство преступления, что-нибудь да найдется в ней антисоветское, и не отбояриться: «Это вы считаете, что нет ничего крамольного, а мы считаем, что есть». И всё. Садись на железную койку, скрипи ржавыми пружинами, взглядывай на белый свет сквозь жёсткие, как неволя, жалюзи. Клеили ему 64-ю – измена Родине, а иностранца сразу отпустили.
Если даже это всё правда что с ним случилось, уж очень как-то складно, как по-писаному, а дело было весной 69-го, все-таки не 37-й год. Не знаю, подсадили его ко мне как «наседку» или действительно сидел он по-настоящему, и посулили ему смягчение участи, если меня охмурить, но уже 27 апреля (а сел он, по его словам, 11 апреля) выпустили его на волю, вернули записную книжку, и пошёл он снова в свой Ленконцерт.
Потом, в конце 70-х, встретил его на Невском, больной он стал, старый, но прятал, прятал свои мягкие участливые глаза. Вскоре умер он от инфаркта, но не шестнадцать тюремных дней были тому причиной. Может быть, нечистая совесть, а скорее всего, просто изношенное суетливой жизнью администратора Ленконцерта холостое мужское тело – тело любителя книг и женщин.
* * *Вторым был тоже Абрамович, имя его забыл. Он являл собой часто встречающийся тип еврейского инженера-производственника – дельного, хорошо работающего свою работу, «технаря», как принято говорить. Такие люди читают больше газеты, иногда что-нибудь очень уж громкое в журналах, поэзию, как правило, не знают и не любят, хотя помнят несколько современных имен, что на слуху, и, конечно, классиков школьной программы. Жизнь у таких людей чаще всего под стать их суховатому, малоприметному облику – суховатая и малоприметная для чужого скользящего взгляда. Жёны их похожи на них – усталые, замотанные женщины, занятые нередко на том же предприятии, или врачи, учительницы, бухгалтерши. Но дети непредсказуемы – могут и в поэты пойти, и в художники, и вообще куда угодно. Эти «технари» – особая порода людей, выведенная в советских условиях, одинаково готовая и на извечный подъярёмный труд, и на отчаянное диссидентство, и на что-нибудь ещё. Когда я увидел своего нового сокамерника, я сразу всё это про него понял, и дальнейшее мало расходилось с моим представлением. Правда, жены не было, но была постоянная прочная связь по месту работы, что мало отличается от обычного супружества.
А попал он, по его словам, так. Вез с работы важные документы, по дороге зашёл в ателье отдать в починку одежду (или, наоборот, взять из починки – неважно), сел там в кресло, портфель рядом; выходя, забыл, вспомнил позже, прибежал, а портфель – поминай как звали. Не сберёг государственную тайну. Тюрьма КГБ – Литейный, 4. Грозила статья не такая страшная, как 64-я – измена Родине, но тоже не сахар – разглашение государственной тайны или преступная халатность, что-то в этом роде. Меня он сухо, трезво и арифметически точно убеждал каяться, всё рассказывать, что спрашивают, не раздражать попусту следствие. Очень скоро, дней через десять, его выпустили, – тайна, якобы, утратила свою таинственность, он снова стал нормальным советским инженером, и можно было его отправлять в шумящий за смутными тюремными форточками город Ленинград, больше чем наполовину состоящий из таких вот инженеров, техников, плановиков, бухгалтеров, врачей и учителей, каждый из которых хоть завтра, хоть через год мог попасть в кэгэбешную камеру и остаться в ней надолго или быть выпущенным через несколько недель на своё великое счастье и на великий страх на всю оставшуюся жизнь.
* * *Третьим был армянин, мелкий мошенник, имя его забыл – маленький, щупленький, весь какой-то остренький, настороженный и злой. Лет ему было слегка за двадцать, но потрепанный, поизношенный суетливой мазуриковой жизнью, выглядел он постарше. Светило ему по его уголовке немного, и держался он привычно, знал, куда попал и за что. В Питере он обретался сравнительно недавно, женился на русской девчонке, говорил о ней ласково, показывал фотографии, читал её письма в тюрьму, милые, участливые. Она не жаловалась, но как бы сквозь сдержанные слёзы писала: «Хоть пока что отдохну по-женски». Но, когда он читал мне эти письма, лицо его всё равно оставалось жёстко-остреньким, злым и настороженным. Несмотря на молодость, был он уже опытным, битым, знающим – что почём в жизни. О моих двух предыдущих сокамерниках, абрамовичах, как он их звал, мне сразу сказал – стукачи, наседки, следствием подсаженные, чтобы ты раскололся, в сознанке был. «Дело твоё пустое, ты же не фабрику поджёг, но быстро не выпустят, в когтях ты уже, не вырвешься». Я и сам это понимал, абрамовичи, упорхнувшие, как воробьи в тюремную форточку, рядом не чирикали, не наводили тень на плетень. Армянин же советовал мне говорить поменьше: чем меньше скажешь – тем меньше эпизодов накрутят. Но было уже поздно – попался бы он мне сначала. Да ведь КГБ знал, что делал, знал, кого подсунуть новичку.
Сам он говорил мало, о мошеннических своих проделках не распространялся, больше вспоминал, как завтракал в «Астории» перед выходом на «работу», и эти воспоминания утешали его, да он и не плакался на судьбу. «Лучше так жить, как я, а там уж как случится. Я-то знаю, за что сел, есть что вспомнить». – «А жена молодая?» – спрашивал я. – «А её дело такое – ждать, пока выйду. Я ей много оставил – дождётся», – говорил он своим острым присвистывающим голосом. «Что ты всё присвистываешь?» – спросил я его. – «Да гайморит, нос простуженный всю дорогу, никак не вылечу: мусора всё мешают».
Так и сидели мы с ним, но недолго совсем – одну неделю. И скрылся он за дверью со своим узелком, со своим присвистывающим голоском и фотографиями ждущей дни и ночи молодой жены.
* * *О четвёртом наберётся у меня слов немного, потому что сидел он со мной дня три. Это был парень лет девятнадцати, а то и меньше, среднего роста, белобрысый, полнолицый, с туповатым взглядом и медленными движениями. Очень любил он поесть и притом прихватить чужого. Однажды, уходя на допрос, оставил я несколько пряников, присланных из дома, на тумбочке; вернувшись, их не обнаружил. Я спросил его. «А в тюрьме коммунизм, тут закон такой – всё общее», – сказал он убеждённо.
Попал он, по его словам, за то, что, якобы, избил хулигана, изнасиловавшего девочку где-то на реке, в глухом месте. «Вышла из кустов, рубаха порвана, по ногам кровь текёт, плачет. А я парнишка физически развитый, догнал мужика – и по голове, да ногами». Как-то не похоже это было на него. Такие как раз и насилуют девочек в кустах, а потом те выходят оттуда разодранные, в крови и слезах. Много таких белобрысых да низколобых по питерским дворам тусуется да в подъездах маячит, гремит в ночи наглым магнитофоном и грохочет сумасшедшим мотоциклом, а сейчас и на «мерседесах» гоняет.
О себе я ему, понятно, не рассказывал, и слава Богу, дня через три его забрали. И остался я один ждать пятого сокамерника, который вскоре появился.
* * *Пятого звали Мишей, и был он, что называется, отпетый урка. Я такого первый раз видел, а сидеть мне с ним пришлось недели две, срок для тюрьмы немалый. Был он средних лет, среднего роста – средний, можно сказать, представитель преступного мира, что прячется в тёмных углах тёмного ночного города перед тем, как выйти на тёмный свой промысел. Впрочем, они и днём ходят, у кого какая метода.
Миша был весь какой-то серый, пустоглазый, глухоголосый. Я чувствовал исходящую от него неприязнь, но внешне он её почти не выказывал. Урки вообще довольно сдержанный народ, и любят закатывать свои психические номера в основном перед начальством. Он внимательно оглядывал меня своими хмуроватыми пустышками и спрашивал, спрашивал. Явно он работал на КГБ, видно, кое-что они пообещали ему.
О своём деле говорил обиняками, но там проступало что-то серьёзное. Да и цементный пол нашей с ним камеры топтал он явно не в первый раз. Всех моих предыдущих сокамерников он считал стукачами, особенно злобно отзываясь о первых двух. Тут и национальная враждебность сквозила, позже прорвалось в нём:
«Знаю, как евреи воевали, пока мы в блокаду дохли, знаем, как они воевали в Ташкенте на солнышке». – «А ты в блокаду в Ленинграде был, что ли? Ты же говорил, что из Кировска родом и жил там, вчера ещё говорил». – «Не я, так другие, такие, как я, какая разница».
Обращался он ко мне то на «вы», когда уговаривал передать с ним письмо на волю родным: «Я под каблук прилажу, век не догадаются», – то на «ты», когда я на эти уговоры не шёл, чуя подвох. К делу моему он относился полупрезрительно. «Что там стихи, кто их читает. Я вот сидел с профессором, он на Сталина бумагу писал, четыре года без приговора сидел, а потом десятку дали. Вот это политиканты, это настоящие». О прошлом вспоминал редко, было ощущение, что ни отца, ни матери у него отродясь не было, так и вылез в зэковской робе из скважины в громоздких тюремных дверях. Власть не ругал, но обижался на неё за то, что неправильно она смотрит на «преступность мир», – так он говорил, льдисто глядя на меня своими пустыми глазами. «Надо человеку дать работу и жильё, когда он освободился. Куда же нам податься, коли баба не дождалась, куда идти? Так вовек не изведётся преступность мир, да власти и надо, чтобы мы воровали, чтобы было, за что ментам хлеб есть».





