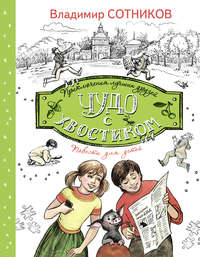Полная версия
Покров
Он остановился немного сбоку. Он и играть не хотел, но все же стало грустно, что еще не началось то время, когда можно стоять и смотреть, как кто-нибудь ловко прыгает на одной ноге, двигая баночку по гладким квадратам. Все молча следили за игрой, не отрываясь, и, наверное, каждый, засыпая вечером дома, все еще видел перед собой эти квадратики с остановленной перед следующим движением баночкой. Ему захотелось спросить Сашку или Толю, как их лечили от испуга, но он побоялся, что они этого не знают и будут над ним смеяться. «Их, наверное, совсем по-другому лечили», – подумал он. Потом он прошел по улице еще дальше, в самый ее конец, несколько раз оступился в лужу, промочил ноги и вернулся домой.
Разделся и подумал, что и читать ему совсем не хочется – заранее он представлял почти все книги, которые мог бы взять в руки. Он прошел мимо стола, на котором они лежали, и стал смотреть на мокрое стекло. Капли застыли на нем, и совсем редко одна неожиданно вздрагивала, сталкивалась с другой, и уже крупная капля находила себе дорожку и медленно стекала вниз. Сзади хлопнула дверь, и, чтобы не оборачиваться, он перешел к другому окну, в спальне, и долго еще так стоял, думая, когда же пройдет этот длинный день.
Прошел не только этот день, но пронеслись быстро еще много других, похожих друг на друга, и каждое утро, когда он выходил во двор, голова сама поворачивалась в сторону соседского сарая, он видел знакомую подпорку и, хотя больше никогда к ней не подходил, видел, словно перед собой, ее неровную поверхность с глубокими трещинами и траву внизу, только трава эта, наверное, уже давно скрылась под новой и зеленой, утонула под ней и исчезла.
Хотя наступило лето, они с братом и с Толей никогда не ходили к своему дубу. Несколько раз, проходя мимо, он даже поспешил пробежать это место и только от улицы оглянулся. Будки не было видно в густой зелени, и он думал всегда, что если брат позовет, то, конечно, они пойдут туда – достраивать, подправлять свое гнездо, но брат не звал никогда, а одному идти к дубу не хотелось. Каждый день он ждал, что его опять станут лечить, хотя не представлял, как можно будет по картофельной ботве дойти до той самой подпорки. Когда приходила бабушка, он готовился к тому, что вот-вот его позовут и будут говорить: «Не бойся, не бойся», – эти слова засели у него в ушах, будто кто-то шептал их внутри.
Он стал замечать, что не только ему тяжело смотреть в глаза отцу – что-то наплывало, как слеза, и хотелось моргнуть, избавиться от невидимой пелены, и глаза уже начинали мерцать, и легче всего было просто отвести взгляд в сторону, – но и отец тоже, когда заговаривал с ним, словно говорил всегда не о том, слова выходили чересчур ласковыми и шутливыми. Казалось, что отец знает что-то тайное и даже стесняется этого и не хочет сказать.
Что бы он ни делал сам, один, он думал, что может сказать при этом отец, и казалось, он слышит его слова.
Однажды, когда отец ремонтировал крыльцо, прибивая новые дощечки, только что оструганные рубанком, он сидел рядом, смотрел, как стремительно входят под ударами молотка гвозди в гладкую поверхность, – и вдруг промахнулась рука, молоток ударил прямо по пальцам, отец подскочил, замычал от боли. А он, не успев даже удивиться себе, вдруг громко сказал: «Дурак!» – и широко раскрытыми глазами уставился в лицо отцу, застыл так на мгновение.
Потом, отскочив в сторону, побежал изо всех сил за дом, не зная, куда он бежит и зачем, только стараясь не упасть, не споткнуться, и уже на углу оглянулся быстро – отец гнался за ним, протянув вперед руки. Он испугался, закричал во весь голос и услышал, что отец тоже кричит: «Не бойся, подожди, не бойся, сынок», – но нельзя было остановиться. Отец обогнал его, поймал на руки, подхватил вверх, а он все брыкался, стараясь вырваться. Отец прижал его к себе и понес обратно к дому, приговаривая: «Ну что ты, глупенький, ну что ты плачешь».
Потом, когда прошло время и он успокоился, то стянул тихонько молоток и, спрятавшись в углу двора, ударил себя по пальцам. Было так больно, что слезы сами полились, и он отбросил молоток в сторону, зажал руку и долго так сидел, не разгибаясь, затаив внутри боль и еще что-то страшное, что никак не могло смешаться со слезами.
6
Когда спрашивали его в то время, как спрашивают у всех детей, кем он хочет быть, он отвечал: «Космонавтом». Сразу согласившись на эту игру, которая всегда начиналась одним и тем же вопросом взрослых, он и отвечал по правилам, требующим простоты и однозначности. Но сам чувствовал, что игра эта – временная и первыми, конечно, прекратят ее взрослые, а на самом деле никакими словами нельзя ни спросить об этом, ни ответить. Сами слова «кем ты хочешь быть» были похожи на пожимание плечами. Иногда так и хотелось сделать, соединить этим вместе вопрос-ответ, но он, хотя и пожимал плечами, все-таки успевал сказать: «Космонавтом». А одновременно с этой игрой внутри него откуда-то возникала другая – наверное, без всякого начала и конца, без условий и правил, скорее, это было состоянием, которое можно и не замечать, но оно все равно не прерывается ни на минуту. И только когда он слышал: «Кем ты хочешь быть?» – то начинал чувствовать внутри себя сладкое замирание и ясность. Казалось, что все вокруг состоит из слов, и если выбрать одно, то оно оставалось тревожным и непонятным, но появлялись другие слова, они слетались откуда-то, он умел ими не то чтобы управлять, а следить за ними неотрывно – и непонятное, тревожное слово, окруженное несколькими прилетевшими, вдруг теряло свое напряжение. Это спасение от страшной тревоги, объяснение одного слова другими превращалось в цепочку слов.
Ему казалось, что он может так объяснить все слова, все предметы, и странная уверенность успокаивала его. «Ночь – это…» – и цепочка уже мерцала, требовалось только небольшое усилие, чтобы она не оборвалась и не прекратилось это мерцание. Конечно, он не думал, что этому занятию есть название, но, когда его спрашивали, кем он хочет быть, сама собой начиналась эта внутренняя игра, и он чувствовал, что она не прекратится, когда он вырастет. Он мог бы сказать: «Вот так я и хочу делать всегда, таким я и хочу быть», – но знал, что объяснить это не сможет никому.
По тому, как дни стали похожими друг на друга ожиданием того нового, чего в них пока еще не было, – чувствовалось, что лето прошло, осталось только дождаться его конца. Последние дни были заполнены одинаковым теплым светом, и особенно похожи друг на друга были закаты вечерами, когда солнце долго-долго готовилось повиснуть неподвижным красным шаром над самым горизонтом, и потом, вдруг соединившись с ним, уже медленно опускалось – и нельзя было оторвать взгляда, пока оно совсем не исчезало, оставив после себя на краю неба тускнеющий огонь.
И вот он просыпается раньше обычного – стремительно проносится испуг, не проспал ли, прислушивается к голосам в соседней комнате, смотрит на стул рядом с кроватью – там лежит новая одежда, которая уже называется школьной, и кажется, что стул за ночь передвинули: в утреннем свете он выглядит совсем по-другому, чем вчера.
Он подхватывается с кровати, и уже безостановочно понеслись минуты, в каждую из которых вмещается целое событие: выскочил во двор, потом на огород – оттуда хорошо видна дорога, еще не тронутая после ночи; словно удостоверившись, что дорога на месте, он бежит обратно, одевается быстро, успевая все же порадоваться непривычности новой одежды, завтракает, косясь на ранец. Родители заняты своими делами, но вот мать проходит мимо, он смотрит на нее и не выдерживает, улыбается так, что кажется, улыбка так и останется у него на лице навсегда. Наконец можно выходить, он натягивает ранец и вспоминает картинку из книги. На картинке много цветов, детей, и взрослые стоят, наклонившись к детям, словно стараются заглянуть им в глаза.
Поле за огородами огромное и выпуклое, дорога поднимается вверх, и на ее середине вдруг оказываешься в самой высокой точке – если оглянуться вокруг, то видно далеко во все стороны и хочется кружиться, скользя взглядом по горизонту.
Все мелькало, сорвавшись с привычного постоянного места, и потом, вспоминая тот далекий день, он всегда думал, что на этой дороге посреди поля впервые почувствовал возможность соединить и себя, и все видимое перед собой с теми словами, которые могли бы все назвать; казалось, от каждого предмета, вздрогнув, отлетало слово, устремляясь в новую, всегда будущую жизнь, не настигая ускользающего своего смысла и уже не умея вернуться назад.
7
Осенью эта дорога притягивала к себе все пространство поля, и хотелось смотреть поверх нее далеко – туда, где дымка над горизонтом соединялась с грустью и покоем. Любое воспоминание всегда залетало на эту осеннюю дорогу и оживало, наполняясь густым и синеватым воздухом поля.
По утрам он спешил отойти от дома до того места, где дорога уже полностью была сама собой, и там шел медленней, растягивая для себя необъяснимую радость. Но вот уже вырастали впереди дома, за ними была школа, и он попадал в странное состояние, когда каждая следующая минута вытягивалась, вырастала из только что прошедшей.
Школа его удивила с самого начала необычностью поведения всех, кто переступал порог класса. Казалось, у каждого, кто сидел рядом с ним, вот-вот отнимут что-то, и напряжение делало всех похожими. Он сразу понял, что говорить можно немного меньше, чем знаешь, и это его беспокоило: он никак не мог определить границу и, сидя за партой, не отвечая, чувствовал, что играет с собой, словно учит себя тому, что и так уже знает. И даже завидовал учительнице, которая привычно притворялась не умеющей ни читать, ни считать и спрашивала иногда смешные вещи – казалось, она шутит. Что нарисовано на этой картинке? Какой квадратик больше? И он думал сразу, что, может, надо бы сказать наоборот, иначе какой смысл во всем этом?
Наверное, он даже уставал от этого и, когда звенел последний звонок, торопился и бежал, чтобы скрыться поскорее за крайними к полю домами. Шел, потихоньку успокаиваясь, по той же дороге. Если кто-то шел впереди, он отставал, стараясь вспомнить, как утром было легко и радостно. В школе он видел песочные часы и сейчас сравнивал свое возвращение домой с переворачиванием этих часов – вот струйка полилась, полилась, и начал расти невысокий бугорок, и трудно уже оторвать взгляд от аккуратной желтой горки.
В этой будущей жизни, которая станет с годами все менее объяснимой, количество обыкновенных предметов, связанных с воспоминаниями и чувствами, окажется бесконечным, и он будет только удивляться, переживая свою беспомощность найти начало этих прочных связей, объяснить их, и в конце концов согласится со своей способностью думать, вспоминать и чувствовать, наблюдая внезапные возникновения перед ним этих разнесенных во времени и сменяющих друг друга предметов. Песочные часы, катящийся по наклонной парте карандаш, пятно чернил на ладони, облако, существовавшее только однажды в такой причудливой форме, последнее яблоко на уже безлиственной антоновке на Покров, мучительные и мычащие глаза коровы, когда ее грузили на тележку трактора, следы отца в снегу, заметаемые наполовину, и он, идущий сзади, оступается, не умея так широко ставить ноги, успевая заметить, что поземка у отцовских ног проносится так быстро, что кажется, отец заваливается набок…
Роение таких картинок перед глазами будет требовать чужого для него усилия, чтобы заставить их соединиться, быть вместе, не перечеркивая друг друга; но непонятная сила сметает все и влечет его дальше – туда, где он может увидеть что-то, еще ни разу не повторенное.
Но на этой дороге, когда возвращался из школы, ему было спокойно, он не спешил, смотрел даже не по сторонам, а просто вокруг, и все видимое было единым, переливающимся и радостным. С верхней точки поля видны были дальние деревни, блестели под солнцем крыши, он переводил взгляд на свой дом, почти полностью открывшийся, и чувствовал, что дорога покидает его и остается сзади, дожидаясь вместе с ним завтрашнего дня.
И на пороге, пока вытаскивал руки из лямок ранца, выбирал место на полу для ботинок, уже возникало волнение, он пробегал в дальнюю комнату, косясь на зеркало, словно хотел проверить, совпадает ли отражение со странным ожиданием, которое растворилось во всем доме, в крестовинах окон, во всех предметах, в словах родителей. Они спрашивали о школе, он отвечал, не умея ни сказать, ни почувствовать до конца неуловимое перемещение слов, неудержимых на своих местах. Смысл сказанного сразу менялся, и он никак не мог примирить свои молчаливые слова с ними же, произнесенными.
Но потом начиналась обыкновенная череда занятий – переодевание, еда, работа; он делал все быстро, подгоняя себя, чтобы не приостановиться в пустом времени.
Ему нравилось ходить за водой, когда солнце уже начинало садиться. Отец запрещал наливать полные ведра, но он все-таки наливал чуть выше рубчиков, нес, стараясь ни разу не остановиться за всю дорогу от колодца до дома. И когда шел еще раз к колодцу, смотрел прямо на солнце – оно уже было неярким, нижним краем касалось лип на краю улицы, и в этом вечернем свете улица замирала, накапливала к ночи тишину.
Перед тем как уснуть, он всегда подолгу лежал с открытыми глазами, зная уже, что сон не придет, пока прошедший день не затихнет в нем, не расстанется с ним. Похожий на вздох, день вспоминался своим внезапным утренним началом, проносился повторением всех событий и застывал в сером пятне окна с мерцающими звездами. Это мерцание так совпадало с молчанием, в котором только и держались слова прошедшего дня, что растворялись и таяли все ощущения, тело становилось невесомым, и он засыпал.
И приходил полный покой, не тревожимый ни называнием всего виденного, ни объяснением – все происходило настолько само собой, что назавтра оставалось лишь удивление от недостижимой никогда наяву радости, и помнил он скорее не сами сны, а эту радость. Если он пытался вспомнить сон от начала до конца, заставляя его стать обыкновенным воспоминанием, то все каменело, тяжелело на глазах и падало ненужным предметом. Страшно вспоминать сны – они сразу исчезают, оставляя ничего не значащие обрывки, и только иногда вспыхивают своей необъяснимостью, улетая в будущую жизнь, как подпрыгивающий над водой камешек – размытые по краям картинки, совершенные в своей естественности.
Вот кто-то взрослый ведет его за руку по тропинке в лесу, говорит не останавливаясь, и ни одного слова не разобрать отдельно, но все это звучит, как шелест листьев – ясен весь смысл, до последнего листочка, вот уже надо ответить, и вдруг он чувствует, что перед своими словами надо что-то изменить, нарушить в том, что видит перед собой. Быстро припадает к земле, над ним проносится густая ветка с шуршащими листьями, и после этого он уже может говорить: «Но для тебя по-другому шумят кусты», – и кусты вдоль тропинки шевелятся, в шевеление их вмешиваются и эти слова, и тот шелест, который он слышал мгновение назад…
А вот он видит маленькую девочку, которую ничем не успокоить, и хотя она не плачет, в глазах ее застыло что-то не растворимое словами, и он чувствует со страхом свою беспомощность, оглядывается – никого больше нет в тесной комнате с черными окнами, он смотрит опять в глаза девочки, и приходит спасение, он поднимает ее на руки, ставит на стул и поит ее из кружечки, и девочка, подняв вверх голову, как птенец, пьет, на глазах вдруг становясь живой и тяжелеющей этим оживлением – и он радуется, смеясь и вздрагивая всем телом…
А утром, привыкая с закрытыми глазами к своему пробуждению, он вспоминает окно, мелькающую за ним ленточку – и видит все на своих местах.
8
Скоро во всем, что было связано со школой, стало больше привычного, чем неожиданного. Он привык сидеть весь урок почти неподвижно, незаметно начинал чувствовать этот отрезок времени физически, угадывая ту минуту, когда пора быть звонку, привык ко всем шумам и запахам, которые всегда были одинаковыми в классе. И одновременно стал замечать, что все понятное и привычное для него он делает быстро, словно торопясь быстрее избавиться, освободиться. Если учительница писала на доске и потом весь класс хором читал – он видел, как буквы терпеливо ждут, пока их наконец узнают, видел, как различаются по настроению одинаковые, но чуть по-разному написанные слова – и это было его игрой, о которой никто не знал. Когда писал в тетради, стараясь не залезть за голубенькую линию, то с трудом себя удерживал – ему казалось, что следующую букву рука сама, получив тайное от него разрешение, выведет как раз на этой линии, перечеркнув ее, радуясь своей победе. Он словно боялся, что его заполнит до отказа умение делать все так, как надо, и новой его игре не останется места, но с радостью замечал, что все понятное уменьшалось в размерах, освобождая место, и он, как когда-то из кубиков, старался построить в пустом пространстве что-то незнакомое и ни разу не существовавшее.
Однажды учительница, отложив в сторону журнал и облокотившись о чистый стол, неожиданно улыбнулась и сказала: «А сейчас мы все расскажем, кем мы станем, когда вырастем». Все по очереди начали подниматься и громко говорить, называя профессии. Он сидел в стороне, его очередь еще не подошла, и с тревогой смотрел, как поднимаются, хлопая крышками парт, ученики, а он все не знал, что сказать. С каждым услышанным словом исчезала возможность его повторения, а голоса были все ближе. Можно было опять, как и когда-то, сказать, что хочет стать космонавтом, но сейчас он искал то слово, которое скрывалось в будущем, не показавшись еще ни разу. И когда поднялся, помолчал некоторое время, а учительница ободряюще сказала: «Ну, а кем же ты будешь?» – выдавил из себя: «Летчиком», – и сразу почувствовал такой ясный стыд, что казалось, после этого он вообще не скажет ничего.
В тот день он не обрадовался ни звонку, ни своему одиночеству на дороге – шел, глядя себе под ноги, стараясь вспомнить ту ясность, которая бывала в нем, когда он чувствовал свое умение назвать и объяснить одно слово многими другими. «А может, это и не называется никак», – подумал он.
Возле дома он встретил брата, который хитро улыбнулся, словно знал что-то новое и не хотел пока об этом говорить. «Наверное, кто-то приехал», – подумалось, и он поспешил в дом.
Но там были только отец с матерью – они, склонившись друг к другу, читали тонкую тетрадку и смеялись. «Вот молодец, это ж надо, взял да и написал, и заголовок даже вывел, и красиво», – говорила мать и легонько встряхивала тетрадку. Они оглянулись на стук двери, и мать сразу же протянула к нему тетрадь: «На, сынок, почитай, что Коля наш отчебучил – написал, как вас пчелы покусали».
Он взял тетрадку и пошел в другую комнату – за дверью все еще слышались веселые голоса и смех. Вверху первого листа было написано крупно: «Пчелы». Он подошел к окну, положил раскрытую тетрадь на подоконник и стоя стал читать.
«Мы пошли гулять на улицу. Мы гуляли возле Мишки. И на нас напали пчелы. Мы побежали, и пчелы укусили всех».
Исписана была одна только страница, и он вспомнил, как летом вылетевший рой искусал их всех. Когда они с Колей прибежали наконец домой, отец выдавливал у них по всему телу пчелиные жала – несколько дней они ходили опухшие, весело смеясь друг над другом.
Он еще раз перечитал эту страничку, удивляясь странному несовпадению слов на листке с тем, что было тогда летом – с теми криками, бегом, когда ноги не успевали за телом и спотыкались, и они падали, подхватывались и бежали вдоль улицы, и страшна была неостановимость всего. «Ну конечно, все же не поместилось на странице», – подумал он и все вспоминал тот день. Зашла мать, спросила: «Ну как, прочитал?» Он кивнул, протянул ей тетрадку. Мать засмеялась: «Это ж надо, все уже и забыли про то, а он, видишь, написал».
Потом вышел во двор, нашел там брата, улыбнулся ему и хотя ожидал от себя каких-то слов, но не знал, что надо сказать. Молча они вышли на улицу, посидели на скамейке. Он хотел сказать про будку – что она, наверное, совсем высохла там, на дубе, но вовремя спохватился, решив, что говорить можно только о тетрадке, и промолчал. Когда они уже возвращались в дом, он спросил у брата: «А кем ты хочешь быть?» Брат глянул удивленно и ответил: «Не знаю». – «И я не знаю», – он засмеялся от легкости, вдруг появившейся в нем, и вспомнил, что надо делать уроки. А когда сел за стол, то начал искать совсем чистую тетрадку, нашел и долго смотрел то на нее, то в окно. Ветра не было совсем, и ленточка висела свободно, невидимая в своем спокойствии.
Когда он почувствовал, что за спиной кто-то стоит, накрыл грудью тетрадку, оглянулся и увидел отца. «Что, уроки готовишь?» – спросил отец, и он закивал поспешно. Отец отошел, а он глянул на страницу, прочитал вверху «Пчелы» – и дальше были такие же слова, как и в той, Колиной, тетрадке…
Он зачем-то вырвал лист, сложил его пополам и вышел в другую комнату к отцу, быстро подошел поближе и протянул сложенный листок. Отец молча взял, серьезно прочитал, опять сложил листок и сказал: «Молодец». И все, погладил только по голове, словно хотел, чтобы он повернулся и ушел. Он вернулся к столу, на котором еще лежала тетрадка, и вспомнил, как в школе ему было стыдно. Стукнула дверь, в дом зашла мать, слышно было, как они разговаривают с отцом. Мать вошла, вытирая о полотенце руки: «Ну-ка, дай и мне почитать, что-то вы с Колей сегодня расписались», – и осторожно улыбнулась. Он сунул ей лист и побежал к двери, хлопнул громко, сразу испугавшись, что отец будет ругать за это, выскочил во двор и быстро оказался за домом, на огороде.
Уже воздух потемнел, и только небо еще сохранило дымчатый свет. У самого горизонта оно тлело последним огнем. Он повернулся быстро, глянул по всему небу и впервые увидел, как цвет его из красного переходит в темно-синий, даже фиолетовый. Ни одной звезды еще не было, и хотелось дождаться, в каком месте появится первая, хотелось заметить неуловимое ее появление.
9
Однажды в душном ночном вагоне он будет лежать навзничь на нижней полке и смотреть через перевернутое окно на догнавшую его луну, вздрагивающую от скорости и от страха исчезнуть из маленького кусочка грязного стекла. Она ныряла в легкие облака, похожие на дым, просвечивая их изнутри, и наливалась ровным светом на пустом небе, мгновенно находя единственную и простую линию, ставшую этой ночью параллельной его дороге, которая стремительно разносила на бесконечное расстояние начало и не существующий пока конец.
И ему казалось, что осталась где-то такая же луна, только неподвижная и спокойная. Она смотрела с вечным ожиданием на темный дом, и свет ее, проходя через окна, разливался по комнатам тусклым и уютным мерцанием. Он просыпался ночью, тревожно оглядывал свою комнату, безуспешно стараясь соединить с этим светом то значение, которое было во всех предметах только днем, и сны покидали его на время, дожидаясь своей власти в таком же тихом и неподвижном мерцании.
В одну из ночей он проснулся от яркого, прыгающего по стенам света, от гула и треска – похоже было, что вдруг взревела, давясь своим огнем, печка. Со сна он еще ничего не хотел понимать и лежал, пока крики родителей не вывели из оцепенения. «Пожар!» – забежал в спальню отец, и глаза его были немигающими, застывшими в страхе. Все замелькали, засуетились тени – почему-то не включали электричество. Он быстро оделся, удивляясь своему спокойствию, и вслед за братом выскочил на крыльцо. Горел дом напротив через улицу, горел весь, и не было на нем ни одного пятна, не охваченного огнем. На голове от жара затрещали волосы, они вернулись за шапками и уже забыли про шапки, помогая матери вытаскивать мигом появившиеся узлы. Он откуда-то знал, что сейчас у него должно появиться много сил, со страху – рванул огромный узел, но поднять не сумел и, удивленный, что ничего с ним не произошло, что сил у него, наоборот, стало меньше, поволок узел поменьше. На улице было полно народу, горевший дом уже не спасали, а поливали их дом, подбегая по очереди, и от стены валил густой пар, так не похожий на дым своим цветом и тяжестью. Под ногами валялись книги, он собирал их в стопки и только хотел поднять, как его толкали, и книги опять рассыпались. Но он старался захватить побольше и носил книги почти охапками в темноту за домом, на огород, сваливая их под яблоню.
Потом он водил вокруг дома бабушку, мгновенно поняв приказание отца. У бабушки в руках была икона, но от пламени бабушка словно ослепла, и, когда свет падал на ее лицо, он видел, как беззвучно шевелятся губы. Они три раза обошли дом, и бабушка вдруг ослабела, села на попавшийся рядом узел, что-то приговаривая, не останавливаясь, и он, держа ее за руку, смотрел, как от стен веером разбрызгивалась вода, стекая в черные, сверкающие огнем лужи.
Назавтра они с братом и родителями целый день молча затаскивали обратно в дом все узлы, мать запихивала одежду в шкаф, и видно было, как изменилось все даже внутри дома – горелый запах пропитал все насквозь, засев по всем углам.