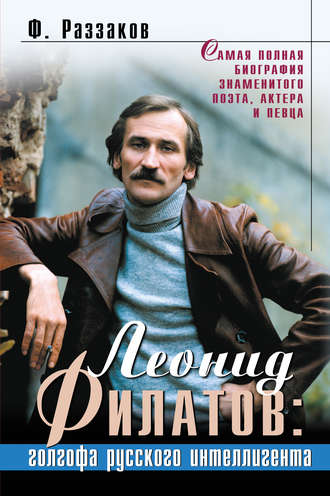
Полная версия
Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента
«Я не знал, что кинотеатры друг от друга далеко, Москва-то большая, в метро только-только приноровился ездить, а все сеансы впритык. И я везде опаздывал. В голове была каша, а отказаться от этого наркотика я уже не мог. И из-за того, что днем я смотрел фильмы, а экзамены принимали до семи вечера, я приходил к шести. К этому времени там мотались какие-то люди не очень выразительного вида, мне казалось, тоже провинциалы вроде меня, обтрепанные такие, непрезентабельные. И я подумал: если уж такие ходят поступать, то чего ж я-то?..
Я читал собственные стихи, свою прозу и басню Феликса Кривина. И удача – меня допустили на следующий тур! А пришел бы я днем, от жары и от ужаса (который передается от поступающего к поступающему) мог бы сломаться, и ничего бы не получилось. Так я и ходил по вечерам сдавать экзамены. Прошел второй, третий туры, а на четвертом без этюдов меня взяли…»
Филатов попал на хороший курс, где вместе с ним учились люди, большая часть из которых впоследствии достигнет больших высот в актерской профессии. Достаточно назвать лишь несколько имен, чтобы все стало понятно: Нина Русланова, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Владимир Качан, Екатерина Маркова.
Поскольку Филатов был приезжим, жить его определили в общежитии, в одной комнате № 39 с двумя его сокурсниками, приехавшими в Москву из Риги: Владимиром Качаном и Борисом Галкиным. Время тогда было интересное, творчески насыщенное и свободное. Только-только в Кремле сместили Н. Хрущева, и новая власть пока еще не определилась в своей политике. Закручивать гайки начнут чуть позже, а пока в том же Щукинском студенты ставили все, что душе угодно: от Солженицына и Шукшина до Дюрренматта и Ануйя.
Вспоминает В. Качан: «Леня Филатов был не только моим другом, но еще и первым соавтором по песням. И я вспоминаю наш первый опыт в общежитии в этом смысле. Это была песня о какой-то неудавшейся любви. В 18–19 лет – это понятно. У всех какие-то любовные драмы в это время. И мы сочиняем песню „Ночи зимние“… Первая наша песня и какой-то студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития. Потом к нам начинают приходить однокурсники, соседи по этажу, все со своими напитками, все хотят послушать эту песню. Мы понимаем, что ошеломляющий успех, популярность этой вещицы обусловлен не ее качеством, а тем, что у всех в той или иной степени была какая-то любовная драма или какая-то история любовная, не совсем получившаяся. И „Ночи зимние“ попадали в резонанс с настроением большинства.
Окрыленные этим первым успехом, мы продолжали сочинять дальше. Каждую ночь – или стихи, или песню. В сигаретном чаду, куря через каждые пять минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, т. е. в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, – он сочиняет новые стихи или новую песню. Я сижу рядом, жду, не заглядываю через плечо – нельзя, табу, жду, когда он закончит, когда я возьму гитару, гитара уже без чехла, лежит, тоже ждет. Он закончит – и я примусь сочинять мелодию, и где-нибудь на кухне часа эдак в три ночи (а уже в 10 утра на следующий день первое занятие) будет премьера песни. Посреди вот этой кухни – окурков, картофельной шелухи – Леня сидит и пишет – надо знать почерк Филатова – каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк – он пишет такими красивыми буковками, что даже жалко зачеркивать, словно это какой-то старинный писарь составляет прошение на какое-то высочайшее имя. Потому что Филатов так скромно всегда говорит – стишки пишу, стишки…
Вот он пишет, зачеркивает-перечеркивает, снова пишет, перечеркивает, опять пишет – в конце концов получается какой-то конечный продукт, и этой ночью сочиняется новая песня…»
Между тем литературные опыты Филатова во время учебы в училище обрели еще больший блеск и остроту, чем ранее. Помимо песен он пишет еще и стихи, а также прозу, которые выдает не за свои, а за чужие произведения, таким образом ловко мороча голову преподавателям, которые всерьез считали, что все эти вирши принадлежат маститым авторам, вроде Ежи Юрандота или Васко Пратолини. И только узкий круг посвященных, куда в первую очередь входили соседи Филатова по комнате в общаге, знали правду об этих стихах. И снова послушаем рассказ Владимира Качана:
«Леонид умело путал карты. Он дошел до такой наглости, что один свой отрывок выдал за часть из „Процесса“ Кафки. Целый час Леонид играл его преподавателям кафедры училища, которая, к чести ее надо сказать, не вся прельстилась, но кое-кто оплошал. Был сделан даже комплимент такого рода: вот видите, какие надо брать отрывки, тогда и играть сможете, а то наберете черт знает что. Товарищ Леонида, Боря Галкин, не выдержал напряжения тайны и, думая, что делает Леониду приятное, выпалил, что это вовсе не Кафка, а Филатов написал самостоятельно, чем, конечно же, смутил высокого преподавателя…»
Качан умалчивает, что этим высоким преподавателем был сам ректор «Щуки» Борис Захава. Когда он был публично уличен в невежестве каким-то желторотым студентом, то так обиделся на Филатова, что перестал с ним здороваться. Однако чуть позже, когда Филатов провинится и встанет вопрос об его отчислении из училища, Захава не станет ему мстить и оставит в числе студентов. Впрочем, не будем забегать вперед.
Вера в собственные возможности у Филатова была тогда настолько велика, что он позволял себе частенько прогуливать занятия по разным предметам, предпочитая им походы в кино (в отличие от Ашхабада или Пензы, в столице кино показывали самое разнообразное). Филатов любил ходить в кинотеатр «Иллюзион», где регулярно устраивались ретроспективы фильмов известных режиссеров. Особенно Филатову нравились фильмы польских режиссеров: Анджея Вайды (ретроспектива его фильмов «Канал», «Пепел и алмаз» и др. прошла в мае 1966 года), Анджея Мунка («Пассажирка», «Шесть превращений Яна Пищика»), Ежи Кавалеровича («Дороги жизни», «Кто он?», «Мать Иоанна от ангелов»). По словам самого Филатова:
«Тогда меня впечатляла невероятно вся эта эстетика – это замечательное черно-белое письмо. Я не мог от него никак отвыкнуть. В цветном кино все время чего-то не хватало, раздражало, казалось глупым и пошлым…»
Филатов исправно посещал только занятия по актерскому мастерству. Но однажды количество прогулов превысило все допустимые нормы, и в администрации училища был поднят вопрос об отчислении студента Филатова. К счастью, за него тогда вступилась руководитель актерского курса В. К. Львова, которая справедливо считала его очень одаренным студентом. Придя к Захаве, Львова сумела убедить его в том, что у Филатова большое актерское будущее и его отчисление из училища станет большой ошибкой. Львова не врала: на своем курсе Филатов и в самом деле числился по разряду лучших. Он учился на одни пятерки и даже по такому нелюбимому всеми студентами предмету, как «научный коммунизм», у него стояло «отлично». Все эти доводы сумели произвести впечатление на Захаву, и он оставил талантливого студента в «Щуке». Однако из общежития все-таки выгнал. Но это была уже другая история.
Скандал случился однажды вечером, когда обитатели комнаты № 39 Филатов, Качан и Галкин пробрались на женский этаж и связали веревками ручки дверей «смотрящих» друг на друга комнат. Затем хулиганы громко постучали в обе двери и стали буквально надрываться от хохота, глядя на то, как девчонки, визжа и причитая, пытаются открыть двери. Короче, скандал получился громким не только в переносном, но и в буквальном смысле.
Утром всех троих хулиганов вызвал к себе на ковер Захава (как выяснилось, ректору «настучала» беременная студентка из Болгарии). Разговор был короткий: не умеете жить – вон из общежития! И пришлось горе-студентам искать себе новое жилье. Нашли они его в центре города, на улице Герцена, причем жилье было не ахти какое – оно располагалось в бывших конюшнях. Однако друзья и этим апартаментам были рады, поскольку студенты народ неприхотливый – была бы, как говорится, крыша над головой, а остальное дело наживное. Как скажет позже сам Филатов: «Несколько лет мы жили в прямом смысле в хлеву. Но нам было здорово. Там перебывала вся артистическая Москва. Это был такой „подпольный Парнас“…»
Поэтическое творчество Филатова тех лет насчитывает в себе не один десяток самых различных стихотворений: как подражательных, так и собственных. По ним можно легко проследить за теми мыслями и чувствами, которые владели их автором в те годы. Вот лишь два из них. Первое – «Открытие», датированное 1966 годом.
Мир, кажется, зачитан и залистан,А все же молод. Молод все равно!Еще не раз любой из древних истинВ грядущем стать открытьем суждено.И смотришь с удивленьем кроманьонца,И видишь, пораженный новизной,Какое-то совсем иное солнце,Иное небо, шар земной…О, радость первозданных откровений!О, сложность настоящей простоты!Мы топим их в пучине чьих-то мнений,Сомнений и житейской суеты.Они даются горько и непросто,Который век завидовать веляБезвестному Колумбову матросу,Что первым хрипло выкрикнул: «Земля!»…Другое стихотворение написано год спустя и уже было мало похоже на романтическое. И название у него было соответствующее – «Компромисс».
Я себя проверяю на крепость:Компромиссы – какая напасть!Я себя осаждаю, как крепость,И никак не решаюсь напасть.Не решаюсь. Боюсь. Проверяю.Вычисляю, тревожно сопя,Сколько пороху и провиантуЗаготовил я против себя.Но однажды из страшных орудийЯ пальну по себе самому,Но однажды, слепой и орущий,Задохнусь в непроглядном дыму…И пойму, что солдаты побиты,И узнаю, что проигран бой,И умру от сознанья победыНад неверным самим же собой…Между тем на 3-м курсе, в 1967 году, Филатов сильно влюбился. Его избранницей стала хоть и первокурсница «Щуки», но девушка уже не просто известная, а суперизвестная. Это была 20-летняя Наталья Варлей, которая прославилась ролью Нины в комедии «Кавказская пленница». Премьера фильма состоялась 3 апреля, причем в одной Москве его сразу показали в 53 кинотеатрах! После этого на Варлей свалилась такая слава, что она не могла пройти по улице нескольких метров – сразу сбегалась толпа. Особенно ее донимали мужчины, которые клялись Варлей в вечной любви и наперебой предлагали ей руку и сердце.
Филатов обо всем этом знал, как и то, что шансов у него не слишком много. Как он сам признавался, «у меня был комплекс относительно своего лица, точнее „рыла“. Однако ничего поделать с собой он не мог: Варлей ему сильно нравилась. Особенно эти чувства усилились, когда Филатов сошелся с ней в совместной работе. Он написал пьесу для первокурсников (помимо Варлей там учились: Наталья Гундарева, Константин Райкин, Юрий Богатырев) под названием „Время благих намерений“, состоявшую из трех новелл, и приходил на репетиции чуть ли не ежедневно (пьесу ставили Валерий Фокин и Сергей Артамонов). Однако Варлей относилась к нему всего лишь как к коллеге и не более.
Вспоминает Т. Сидоренко: «Нет, Варлей не отталкивала Леню, позволяла любить себя, даже не ухаживать, а именно любить, общалась с ним. Но не больше. А он из-за этого страшно переживал. Мы с Леней часто сидели в одном кафе на Арбате, он рассказывал о своей любви, говорил, что страдает, просил совета. А что я могла ему посоветовать? Сидела, слушала, боясь лишним вздохом ему как-то помешать. Ведь для меня Филатов, да и вообще тот курс казались какими-то небожителями…».
Спустя какое-то время Варлей вышла замуж за популярного актера Николая Бурляева, чем поставила окончательный крест на чувствах Филатова. Видимо, чтобы заглушить в себе эту боль, он тоже влюбился – в актрису Лидию Савченко. И благодаря ей устроил свою театральную судьбу.
Глава третья
Новая «Таганка»
Училище Филатов закончил летом 1969 года и был принят в Театр на Таганке. Поскольку этот театр и человек, долгие годы возглавлявший его, сыграют в жизни нашего героя значительную роль, стоит рассказать о них более подробно.
Театр на Таганке возник в 1946 году под руководством заслуженного артиста РСФСР А. К. Плотникова и в течение почти 20 лет являл собой крепкого середняка в театральном мире столицы, ставя в основном пьесы советских авторов. Правление Плотникова могло продолжаться до самой его смерти, если бы в дело не вмешалась политика. В конце 50-х в стране грянула «оттепель». К тому времени страна была беременна реформами, они были ей необходимы как воздух, но вся беда была в том, что возглавил их не самый выдающийся политик. Никита Хрущев был человеком малообразованным, догматичным, к тому же имел крайне неуравновешенный характер. В итоге эта гремучая смесь и привела к плачевным результатам: во внутренней политике это было ухудшение экономической ситуации, во внешней – разрыв с восточным соседом Китаем и «карибский кризис», который едва не поставил мир на грань ядерной войны.
Что касается разоблачения культа личности Сталина, которое ставится Хрущеву в главную заслугу, то и оно по большому счету привело к негативным последствиям: подорвало авторитет СССР в мире и раскололо советское общество, обострив в нем борьбу элит: с одной стороны, либералов, ориентированных на Запад (так называемых западников), с другой – державников.
Западники ратовали за перенос на советскую (русскую) почву западных ценностей, которые зиждились на трех китах: сомнение, критический дух, борьба мнений. Свою деятельность западники подавали обществу как борьбу за обновление социализма, придание ему «человеческого лица» (получалось, что до этого социализм имел какое-то иное лицо). Западники считали себя прогрессистами и полагали, что только цивилизованный Запад сможет вывести «темную и лапотную» Россию из многовековой отсталости.
Державники эту позицию всячески разоблачали, считая ее гибельной для страны. Они исходили из теории цивилизационных войн, согласно которой западная цивилизация всегда рассматривала Россию как своего главного стратегического противника вне зависимости от того, кто находился здесь у власти – монархисты или коммунисты, – и жаждала лишь одного: исчезновения России как суверенного государства. По мнению державников, любая попытка апелляции к Западу за помощью или желание более тесного сотрудничества с ним грозила России экспансией западных духовных ценностей (державники называли их «болезнями») и как итог – сначала духовным, а затем и экономическим порабощением страны. При этом многие державники тоже не являлись ревностными апологетами советской власти, однако поддерживали ее как свою державу, как великую Россию. Они во всем разделяли слова русского мыслителя Ивана Ильина, который еще в 1937 году сказал следующее: «Мы должны понимать и помнить, что всякое давление с Запада, откуда бы оно ни исходило, будет преследовать не русские, а чуждые России цели, не интересы русского народа, а интерес давящей державы».
Эта борьба напоминала события далекой истории, происходившие на территории Великого Хазарского каганата, который существовал 300 лет (на месте нынешней Астрахани), пока талмудисты (сторонники обновленной «ортодоксальной» иудейской веры, которые понаехали в каганат со всего света) с помощью своего «сладкого талмудического яда» не опрокинули идеологию ортодоксальных книжников-библейцев – караимов. В итоге каганат сначала разрушился изнутри, идеологически, а потом пал от внешнего воздействия – от ударов князя Святослава Игоревича.
Но вернемся к событиям вокруг Театра на Таганке.
С поста руководителя «Таганки» Плотникова сняли как не справляющегося с работой: этот театр в последние несколько лет и в самом деле превратился в малопосещаемый. Однако эта формулировка позволила западникам привести к власти в «Таганку» своего ставленника.
Перемены в Театре на Таганке начались в конце 1963 года. В ноябре туда пришел новый директор Николай Дупак, а на место главного режиссера была предложена кандидатура Юрия Любимова. Предложена не случайно, поскольку западники увидели в этом человеке талантливого проводника своих идей. Причем обнаружилось это не сразу, ведь долгие годы Любимов выступал рьяным апологетом советской власти. Как выяснится позже, все это была всего лишь ширма, за которой скрывалось совсем другое нутро.
В биографии Любимова было одно пятно, которое сам он долгие годы не афишировал. Причем советская власть знала об этом пятне, но никогда им Любимова не попрекала, предпочитая закрыть на это глаза. Ей казалось, что, делая так, она заполучила в свои ряды верного своего приверженца. Как показали последующие события, это было заблуждение.
Дед Любимова, кулак-единоличник из деревни Абрамцево под Ярославлем, был раскулачен в конце 20-х. Тогда же под каток репрессий угодили и родители Любимова: отец, мать, а также родная тетка. Правда, вскоре мать из тюрьмы освободили (она сумела откупиться, отдав властям свои последние сбережения), а вот деду и отцу пришлось несколько лет отсидеть в тюрьме.
Несмотря на то что взрослые члены семейства Любимовых оказались в категории «врагов народа», на их детей (Давыда, Юрия и Наталию) это клеймо не распространилось. Уже в начале 30-х годов старший из детей Любимовых, Давыд, вступает в комсомол, а чуть позже по его стопам идет и Юрий. Он поступает в ФЗУ «Мосэнерго», после окончания которого работает сначала рядовым монтером, а потом становится бригадиром ремонтной бригады. В конце 30-х он поступает в театральное училище имени Щукина. Если кто-то подумает, что пример Любимова случай исключительный, то он ошибется: большинство детей «врагов народа» судьбу своих родителей не разделяли и новая власть предоставляла им равные со всеми возможности для жизненного роста. 30 декабря 1935 года даже вышел указ об отмене ограничений, связанных с социальным происхождением лиц, поступающих в высшие учебные заведения и техникумы.
Закончив училище, Любимов был распределен в Театр имени Вахтангова. Но вскоре началась война, и Любимов оказывается в только что созданном по приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии Ансамбле песни и пляски НКВД. Если учитывать, что отбор туда происходил в результате самого тщательного изучения анкетных данных, то невольно закрадывается мысль: как в этот коллектив мог попасть сын и внук «врагов народа» Юрий Любимов? Да все по той же причине: сын за отца не отвечает. Зачлось Любимову и его добросовестное служение советскому строю за все предыдущие годы. Не зря ведь красавца студента Любимова взяли в Театр Вахтангова именно на роли «социальных» героев – то есть правильных советских юношей. И он их с радостью играл. Да и в Ансамбль НКВД Любимов был приглашен не в рядовые статисты, а в качестве ведущего (!) программы и исполнителя задорных интермедий.
Позже, уже после падения Берии, Любимов вволю отыграется на своем бывшем шефе: с таким же задором, как он конферировал и пел куплеты про торжество советского строя, он заклеймит Лаврентия Палыча: «Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий…» Хотя никакого героизма – пинать уже умершего наркома – в этом поступке не было. Вот если бы Любимов спел эти частушки при жизни Берии, вот тогда его имя можно было бы высечь на скрижалях истории. Но в таком случае эта слава досталась бы Любимову посмертно, а он этого, естественно, не хотел. Цель-то у него была другая: обмануть, пережить советскую власть. Ну что ж, теперь уже можно точно сказать, что в этом деле Юрий Петрович преуспел.
После войны Любимов возвращается в родной Вахтанговский театр и практически сразу получает главную роль. Причем не кого-нибудь, а комсомольца-подпольщика Олега Кошевого в «Молодой гвардии». За эту роль Любимова удостаивают Сталинской премии, что мгновенно открывает молодому актеру дверь в большой кинематограф. Он снимается у Александра Столпера, Николая Ярова и даже у Ивана Пырьева в его хите начала 50-х «Кубанские казаки», который тоже будет удостоен Сталинской премии.
Кстати, и в этом случае Любимов не удержится от сарказма – проедется шершавым языком критики по адресу фильма в годы, когда Пырьева уже не будет в живых. Он расскажет, как был возмущен происходящим на съемках: дескать, в стране чуть ли не голод, а Пырьев показывает счастливых людей и изобилие на столах. Цитирую:
«Снимали колхозную ярмарку: горы кренделей, какие-то куклы, тысячи воздушных шаров. Ко мне старушка-крестьянка подходит и спрашивает: „А скажи, родимый, из какой это жизни снимают?“ Я ей говорю: „Из нашей, мамаша, из нашей“. А у самого на душе вдруг стало такое, что готов сквозь землю провалиться. Тогда и дал себе обещание – больше никогда в подобном надувательстве не участвовать».
Соврал себе Юрий Петрович. Уже через год после съемок в «Кубанских казаках» он получает еще одну Сталинскую премию за роль красного комиссара Кирилла Извекова в одноименном спектакле по роману К. Федина «Первые радости». И чем же «Кубанские казаки» Пырьева отличались от «Первых радостей» Федина, извольте спросить? Разве тем, что в «Казаках» показывали миф о послевоенной советской жизни, а в «Извекове» – миф о Гражданской войне. По Любимову, то же надувательство.
Однако дальше происходит и вовсе запредельное действо: в 1953 году Любимов… вступает в КПСС. Сам он объясняет этот поступок следующим образом: «Я воспитан на нравственных ценностях великой русской культуры… Когда я был относительно молод, мои старшие товарищи-коммунисты, которым я верил, уговорили меня вступить в партию. Они считали меня честным человеком и убедили, что сейчас в партии должно быть больше честных людей, и я поверил им».
Очень ловкий ход: свалить все на других людей. Дескать, сам я даже мысли не допускал стать коммунистом, но старшие товарищи, такие-сякие, чуть ли не силком затащили в проклятую КПСС. А ведь на самом деле все было гораздо проще, можно сказать, прозаичнее. После того, как Любимов еще в детстве понял, что у него, как у сына «врага народа», нет другого пути в этом обществе, как принять его законы, он смирился с этим. Как и миллионы других детей «врагов народа». Но у Любимова было одно «но», которое отличало его от этих миллионов: он стал не просто рядовым членом этого общества, а самым ревностным его служакой. Лучший в ансамбле НКВД, лауреат Сталинских премий и т. д. – вот они те самые ступеньки, по которым Любимов взбирался на самый верх. Как выяснится позже, усердие Любимова было деланным. На самом деле пепел репрессированных родственников-кулаков все это время стучал в его сердце и Любимов только ждал момента, когда он сможет сполна отомстить советской власти. Этот момент наступит, когда Любимов встанет у руля «Таганки». С этого дня он превратится в одного из ниспровергателей тех самых устоев, которые он на протяжении долгих лет сам добросовестно и культивировал.
В известном романе Анатолия Иванова «Вечный зов» был очень точно нарисован портрет такого же приспособленца – Федора Савельева, которого всю жизнь точила злоба на советскую власть за то, что она не дала ему возможности унаследовать справное хозяйство купца Кафтанова, у которого он ходил сначала в лакеях, а потом в фаворитах. В эпизоде, где он спорит со своим младшим братом Иваном, последний заявляет: «А ведь ты, Федор, не любишь советскую власть». Брат в ответ возмущается: «Как же я могу ее не любить, если я за нее кровь проливал, партизанил?» На что Иван отвечает: «Это верно. Только случись сейчас для тебя возможность, ты бы против боролся». На мой взгляд, Любимов из той же породы людей, что и Федор Савельев. И обоих раскусила война: только Савельева Великая Отечественная (он перешел на сторону фашистов), а Любимова – холодная (в начале 80-х он не вернулся на родину из зарубежной командировки). Правда, итог жизни у обоих героев оказался разным: Савельева застрелил его родной брат Иван, а Любимов с триумфом вернулся на родину, когда здесь к власти пришли его единомышленники.
Но вернемся к годам зарождения «Таганки», в первую половину 60-х.
Вплоть до начала 60-х Любимов продолжал представлять из себя вполне лояльного власти актера и режиссера. Играл правильных героев и ставил незатейливые пьески с куплетами на сцене родного ему Вахтанговского театра. Но в 1963 году силами студентов своего курса в театральном училище имени Щукина, где Любимов преподавал, он поставил пьесу «Добрый человек из Сезуана», принадлежащую перу Бертольда Брехта. Этот немецкий драматург считается не только великим реформатором драматического искусства, но и ярым антифашистом. Все его пьесы содержали в себе резкую до гротеска критику социальных и нравственных основ буржуазного общества, за что Брехту изрядно доставалось. Перед войной он эмигрировал в Америку, где прожил шесть лет, но так и не смог поставить там ни одной своей пьесы, издать ни одной своей книги. В итоге драматург вынужден был попросту бежать из США, чтобы не попасть под дамоклов меч комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
Между тем в Советском Союзе Брехт был очень популярен: здесь на сценических подмостках многих театров были поставлены чуть ли не все его пьесы. Однако в годы «оттепели» у нас появились режиссеры, которые стали по-своему интерпретировать произведения этого драматурга. Эти постановщики стали представлять Брехта как поборника «чистого искусства», стремясь доказать, что Брехт хорош только там, где перестает быть коммунистом. Возразить им Брехт ничего не мог, поскольку ушел из жизни в 1956 году. Однако за год до этого, уже будучи тяжело больным человеком и удостоившись звания лауреата Ленинской премии, Брехт сказал следующее: «Мне было девятнадцать лет, когда я узнал о вашей Великой революции, двадцати лет от роду я увидел отблеск вашего великого пожара у себя на родине. Я служил военным санитаром в одном из лазаретов в Аугсбурге. В последующие годы Веймарской республики я обязан своим просветлением трудам классиков социализма, вызванным к новой жизни Великим Октябрем, и сведениям о вашем смелом построении нового общества. Они привязали меня к этим идеалам и обогатили знанием…»











