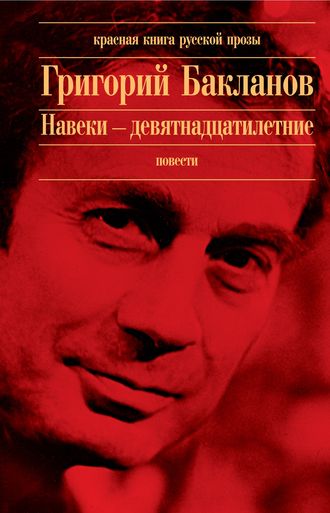
Полная версия
Навеки – девятнадцатилетние
Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом еще зеленей заблестела вытаявшая из-под снега трава.
И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст – четверо. Только волна возникала и отделялась.
Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.
Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий год и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное фронтовое состояние, когда спал – не спал, в любой час и спать готов, и подхватиться по тревоге. И многое он уже знал про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше чем вдвое был старше его:
– Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?
И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:
– Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?
Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую иссосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца.
Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переворошили сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным.
Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывая провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно.
За обратным скатом высоты, в низине, пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь.
Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется – и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу, и конец его и начало, все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.
Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке.
Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестят на ветру вершины деревьев, плывут, плывут навстречу им белые облака… Он засыпал, просыпался… Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, – закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо маслено блестит от близкого жара, глаза сожмурены… Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.
Огонь лизал сальное, дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть.
– Ты чего варишь, Кытин?
Тот обернулся:
– Проснулись, товарищ лейтенант?
– Варишь, говорю, кого?
– Да бегало тут о четырех ногах… С рожками.
– А как оно разговаривало?
У Кытина глаза сошлись в щелочки:
– Бе-еэ, – проблеял он. – Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми наденете.
– Они на солнце просохли.
Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.
– Один градусник был, и тот украли, – пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужно ее градусник воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет, весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне: женщин. Особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.
Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них еще подымутся, оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган, черный глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но, когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять, – столько он ее наглотался ночью.
Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную, обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная, круглая голова: уже убитого, хоронил его другой снаряд.
Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок – и впереди, и позади, и прямые попадания, – огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе.
Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника.
Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.
Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Чабаров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.
– Ешьте, ешьте, – сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо – сладкое, сочное.
– А что, товарищ лейтенант, – спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него, – на нашем фронте и воевать можно?
И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы, а они уже и поспать успели, и поели – вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой.
Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову назначить с ним в ночь двух человек – разведчика и связиста, – и тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает – за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу, – до них здесь так же сидели на траве, – неужели от них от всех ничего не останется? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль – все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час – отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие – Пушкин будущий, Толстой – остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?
ГЛАВА VI
За полчаса до начала артподготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп. Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.
– Водки выпьете, товарищ лейтенант? – спросил Кытин. В рассветном сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским. А сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом.
– Откуда у тебя водка?
– Тут старшина пехотный… – Кытин зевнул, как щенок, показав все нёбо. Глаза влажные, похоже, правда, спал. – Они, в пехоте, потери на другой день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра знаете сколько у них будет водки!..
Третьяков глянул на часы:
– Уже сегодня, не завтра. Давай, сто грамм выпью.
Он выпил из крышки, и показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребывая котелок: может, в последний раз… С этой мыслью и ложку облизав, прятал за обмотку: может, больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина – до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже ни остановить, ни изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой жизни ведь не будет.
Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты, никто не может этого остановить, в такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход, и потому неостановимо.
Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть.
Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина была там начмед.
Под низким накатом землянки глаза его посвечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевой кожицей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и временами что-то напухало.
Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно все это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга… Странно все это покажется людям когда-нибудь.
Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнущего от котелка комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя, и полк был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина; тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно:
– Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший лейтенант Безайц… Под Харьковом… Не знал случайно?
Само так получилось, что сказал «дядька», словно бы это еще не про отчима, если скажет «убит».
– Безайц… Фамилия, понимаешь, такая… Ты вот кого спроси: Посохин, начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц… Должен помнить. А я под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.
В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у себя тут тоже скоро… А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.
У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале: «Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте… В тех самых местах… Может быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича…»
Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже теперь постеснялась назвать иначе.
Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменилось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий, худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы, которой касался бритым подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.
Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за мать даже, за него впервые защемило сердце.
Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая, вся плоская-плоская стала. И жилы на шее. А Лялька за два года переменилась – не узнать. Война, едят неизвестно что – и расцвела. Когда уходил на фронт, посмотреть было не на что: коленки и две косюльки на худой спине. А тут она шла с ним по улице – офицеры оборачивались вслед.
Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял: свернуть уже не успеет.
– Дай докурить!
Он взял у Суярова цигарку, глубоко, как воздуху вдохнул, затянулся на все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул, толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой: в нем с шелестом проносились снаряды – и ниже и выше: в несколько этажей.
Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.
Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели сообразить.
– Связь проверь! – крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!
Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда – не разглядеть: все впереди в дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы – из крыш взлетело к ним несколько взрывов.
Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота подымается в атаку, отрывает себя от земли.
– Ррра-а-а! – допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов, длинные пулеметные очереди.
Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.
Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах. Поразило, как всякий раз в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет. Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик.
В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые, нетреснутые даже; белый нос покойника торчал из них.
Сел Кытин, отплевываясь, – в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу: там, позади, всходило солнце над полем боя.
Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край.
– Пошли!
Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху.
Он издали заметил этот окопчик: между подсолнухами и посадкой. В сухой траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле открывалось. Третьяков махнул ребятам:
– По одному – за мной!
И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком. Спрыгнул в окоп. И тут же пулеметная очередь поверху. Выглянул. В траве, вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на спине, как башня танка.
Один за другим они ввалились в окоп. По щекам – черноземные потоки пота. Сразу же начали подключаться.
Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет положил ее на этом поле и держит. Подымется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь, и шевеление затихает.
– Лебеда, Лебеда, Лебеда! – вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалось: «Беда, беда, беда…» Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше по своей пехоте угодишь.
– Лебеда?! Слышишь меня? Это я, Акация! Товарищ лейтенант! – Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.
В трубке – сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона отобрал трубку: сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко: «Кто у тебя там? Новенький? Как его?..»
А он тоже комдива в глаза еще не видел, только голос его слышал.
– Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне, понял? Не ври!
– Я тут на поле, товарищ Третий. Левей посадки. Пехота тут залегла…
Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.
– По-пластунски – вперед!
А пока к другому отполз – «По-пластунски – вперед!» – этот уже замер. Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. «Пилотку бы снял…» – мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней губы.
Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.
– Что там у вас? – кричал командир дивизиона, которому слышно было в трубку, как здесь грохочет. – Где ты находишься?









