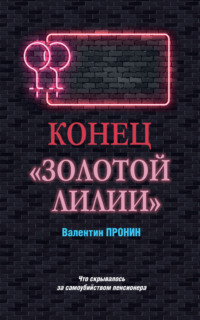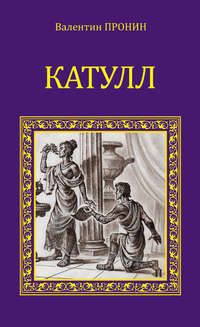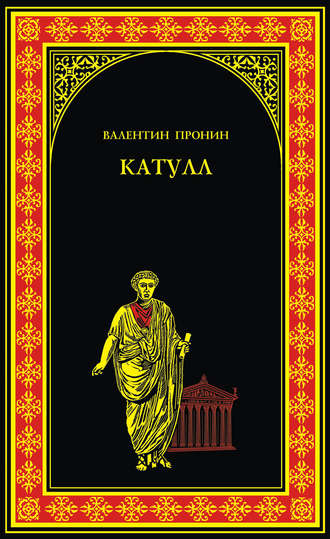
Полная версия
Катулл
Внесли светильники, тени заметались на потолке. В триклинии по-прежнему спорили и наполняли чаши. Катон шепнул несколько слов Гелланику. Прислонившись к стене, иониец заиграл на шипящей фригийской флейте[62]. Катон взял кифару и присоединил стройные аккорды к его пастушеским руладам.
Послышалось звяканье меди, вбежали две прежние рабыни с кимвалами[63] в руках.
Смущенно поглядывая друг на друга, девушки начали томный восточный танец. Они медленно кружились, поводили плечами и покачивали бедрами. Но вот флейта засвистела быстрее, и танцовщицы ускорили движения, проносясь то влево, то вправо перед глазами гостей. Разметались пряди распущенных волос, замелькали тонкие руки с гремящими кимвалами…
Кривляясь, как пьяный фавн, Аврелий обнял одну из танцовщиц, к другой, сладко ухмыляясь, приближался Тицид. Девушки ловко скользнули у них из-под рук, швырнули на пол погремушки и выбежали из триклиния.
– Тицид, миленький! – истошно вопил Фурий. – А как же Метелла… то есть, тьфу… Перилла?
– Вот бесстыдники, не дали девчонкам закончить танец, – смеялся Аллий, подмигивая Катону.
– А ведь сегодня ночью в честь праздника Цереры[64] будет разыграна ателлана[65] при факелах! – Юный волокита Аврелий уже забыл о своей неудаче и готовился к дальнейшим забавам.
– Стоя в толпе черни, любоваться непристойными кривляниями шутов… – пожал плечами Катон.
Внезапно с Катоном горячо заспорил Катулл:
– Ты считаешь ателлану забавой черни? Но разве в ней не отразилась душа наших предков? Любезный Катон, в народном веселье ты почувствуешь животворную силу и хлебнешь едкого италийского уксуса.
– Похвально изучать александрийскую поэзию, прекрасное дело переводить Каллимаха. Но мы ведь пишем и думаем по-латински… – поддержал веронца Лициний Кальв.
– А моя плебейская душа жаждет уличного лицедейства, тем более после такой отменной попойки, – заявил Вар, оказавшийся в абсолютно здравом уме. – Оставим Акция[66] ученикам грамматических школ. Клянусь Меркурием, моим покровителем, я иду на ателлану!
– Где же она будет разыграна? – спросил Катулл. Он вспомнил, как все мальчишки в Вероне бегали по праздникам смотреть представление грубоватой и веселой комедии с забавным дураком Макком, болтуном Букконом, сплетником Доссеном и похотливым стариком Паппом.
– Идемте в курию Цереры. Там перед храмом поставили подмостки. Начало сразу после первой стражи[67].
– Клянусь всеблагими богами, решение принято! – воскликнул Вар. – Эй, мальчик, еще по чаше тускульского на дорогу!
– Гелланик, – позвал Катон, – возьми Стефана да кулачного бойца Нумерия. Будете нас сопровождать.
Гости покидали триклиний. Поспешив вперед, Гелланик зажег факел – кусок просмоленного каната.
Громко разговаривая и смеясь, поэты вступили в ночную тьму, четко отделенную на гранях домов от сияния зеленоватой майской луны.
VII
На одной из тесных улочек Квиринала, возле дома всадника Стаберия, сидели трое мужчин в заплатанных туниках. Черпачками, сделанными из хлебной корки, они ели густую ячменную похлебку – пульту. Стена сада нагрелась от весеннего солнца, припекало и ступеньку, на которой они расположились. Но трое жевали размеренно, посапывая и вытирая кулаками вспотевшие лбы, как едят крестьяне, относящиеся к пище почти молитвенно.
Покончив с похлебкой, они съели и хлебные черпачки. Достали глиняную бутыль с отбитым горлышком и поочередно наливали в оловянный стаканчик дешевой кислятины. Трапеза настроила их благодушно, и начался послеобеденный разговор.
– Хороша пульта у стряпухи Порции, – сказал коренастый пожилой бородач, приехавший в Рим с Бенакского озера[68], – а, Лувений?
– Что верно, то верно, – подтвердил апулиец[69] Лувений, горбоносый, лохматый, с давно не бритой черной щетиной, – тут ты, Тит, прав.
– Слава богам, сыты – едим дважды в день, – снова сказал Тит. – Пахарю нельзя привыкать объедаться и бездельничать.
Черномазый апулиец ухмыльнулся и подтолкнул парня лет двадцати:
– Ну а мы бы не отказались от господских сластей. Свиное вымя в уксусе получше каши без масла, дурак поймет. Скоро, перед выборами, нобили[70] начнут ублажать народ… Столы поставят у Тибра – жратвы, вина, хоть тресни. Вот жизнь-то, а, Манний?
Парень махнул рукой и сделал недовольное лицо:
– Тебе хорошо, бросишь свой лоток с гнилыми тесемками и пойдешь куда тебе надо. А я-то в саду у сквалыги Стаберия за долги копаюсь: не захочет – не отпустит.
– А меня римские безобразия, пьянство и распутство в тоску вгоняют… – мрачно произнес Тит.
– Ох, Тит! Ох, смешной! – скалил зубы Лувений.
Тит посмотрел на него укоризненно: что за человечишка вертлявый такой! – и продолжал рассуждать:
– Сейчас бы на поле всходы осматривать да нашим крестьянским богиням Сейе и Сегетии моления совершать. Вечером на озере сеть забросить, а перед сном – посидеть под платаном, распить по секстарию[71] винца с зятем и племянником.
Апулийцу Лувению до того стало весело, что он подпрыгнул на корточках и привалился к стене.
– Ох, Тит! До чего ты прост! Все бы в земле тебе ковыряться, старый крот! И зачем ты только сюда притащился?
– Моя семья арендует у знатного господина Катулла землю под пшеницу и овощи. Прошлый год задолжали малость, аренду полностью не выплатили… Вот мне и говорят: «Поезжай-ка ты в Рим, будешь молодому хозяину прислуживать, а долг твоей семьи за эту службу зачтется».
– Рабов у них нет, что ли?
– Как не быть. Да только в наших краях все по-другому. Здесь, в Лации-то, говорят, тысячи рабов у богачей, а свободнорожденные разорены. Бродят по дорогам да на рынках подаяния просят…
– Знаем, – нахмурился Лувений.
– Рабы моему хозяину не подошли, а я, видишь, понравился. Конечно, я в лавку хожу, к завтраку Гаю Валерию сыр покупаю, а потом весь день маюсь, будто пес шелудивый… – Тит заморгал глазами и засопел, но одумался, жаловаться больше не стал.
– Тебе ли сетовать, – вздохнул Манний. – Твой молодой хозяин бестолковый, как теленок, весельчак, кутила… Не придирается, голодом тебя не морит…
Лувений придвинулся с деловым видом:
– А деньжонки у него водятся? Род богатый?
– Род Катуллов у нас известный. Отец Гая Валерия в городском совете сидит. А сам-то Гай Валерий уходит с утра, как жених, выбритый, вымытый, надушенный, а приходит хмельной да измятый…
Лувений уставился своими бесстыжими глазищами с любопытством:
– Пирует небось? Со знатными юношами дружит?
– У кого деньги есть, чего же не пировать, – заметил Манний.
– И какие деньги можно просадить в Риме – подумать страшно! – сокрушался Тит. – Мой хозяин на подарки потаскухам сколько истратил! Да книг натащил ворох… Бывает, усталый, бледный, и – нет бы выспаться – всю ночь сидит и читает. Или пишет…
– Чего ж он масло-то в светильнике переводит? – удивился Манний.
– Дня ему не хватает, что ли? Читать-писать… – Лувений корчил рожи – явно хотел поддеть и Тита, и его Гая Валерия.
– Пишет он, скажу-ка вам правду, стихи, – пояснил Тит. – До стихов и другой блажи мне дела нет, но что про Гая Валерия толкуют доброе, клянусь Юпитером, это верно.
– В Рим лезть со стихами – все равно как решетом дождь ловить. Стихоплетов развелось во сто раз больше, чем бродячих собак.
Помолчали, выпили еще по стаканчику. Манний мотал головой и вздыхал – томился по деревне, а может быть, по милой…
Лувений посмотрел на него и промолвил лукаво:
– Лучшее время в деревне осенью: урожай собран, вино забродило. Самую цветущую девку отдают самому ражему парню вроде Манния. Все пьянствуют и поют. Ну-ка, спой нам, Тит!
– Да мы не поймем его галльские песни, – пренебрежительно сказал Манний.
– Разберемся. Мы теперь все римляне, – настаивал Лувений. Тит долго отказывался, но потом махнул рукой, крякнул смущенно и затянул сипловатым баском эпиталамий[72]:
О, Гимен – Гименей!Услышь ты ваш дружный зов!Приходи к нам, веселый бог,Добрых свадеб строитель…– Гляди, как распелся мой захмелевший Тит! – воскликнул Катулл, появляясь из-за угла. С ним был красивый юноша в короткой тунике, затканной золотыми блестками.
– Старик поет с чувством, не правда ли? – продолжал Катулл, – хотя и сильно шепелявит, что сразу выдает жителя Цизальпинской Галлии.
– Наверное, от него ты и набираешься тем для элегий… Или скорее для гимнов, – сказал юноша, поправляя нежной тонкой рукой черные волосы, падающие на плечи.
– Что ж, Камерий, ты прав: кроме александрийских ямбов, я склонен находить своеобразную прелесть в песнях народа. Поэт, избегающий их, напрасно ограничивает свое воображение. Однако, Тит, бессовестный, я привел гостя, а ты и не думаешь подать нам по чаше вина.
Тит молча забрал миску, оловянный стаканчик, бутыль и пошел вокруг дома к невысокому приделу, облицованному бетоном. Это и была та пристройка, которую Катулл снимал за две тысячи сестерциев в год. В первой ее комнате размещался Тит со своим хозяйством, во второй и третьей стояли скамьи, стулья, спальное ложе, туалетный столик и шкаф со свитками книг. Тускло желтела бронзовая чеканная ваза из Коринфа, на шкафу расставлены терракотовые статуэтки, светильники, дорогая посуда красного стекла, мраморная статуя Дианы – Латонии, у спального ложа – письменный прибор и таблички – церы.
Катулл небрежно отбросил хлену. Покусывая нижнюю губу, он вспоминал объятия оливково-смуглой сицилийской гречаночки Ипсифиллы. Сегодня он заявился к ней с утра и до полудня слушал ее млеющий лепет.
Выходя от Ипсифиллы, Катулл встретил юного Камерия. Подозрительно, что этот красавчик оказался именно здесь. Неужели похотливая девчонка пригласила и его? Катулл со смехом погрозил Камерию, сделавшему невинный вид.
Камерий беспечен и остроумен; он состоит в актерской коллегии при храме Минервы. В Риме к актерам по традиции питают презрение, не то что в Греции, где они пользуются любовью сограждан. Правда, в недалеком прошлом и на римских подмостках выступали великие трагики и мимы, заслужившие всеобщее признание, – такие, как Эзоп и Росций.
– Итак, дорогой Гай, ты увлекаешься крестьянскими песенками… Но что же из этого последует достойного и благородного для поэзии? – разглагольствовал Камерий, развалившись на стуле.
– Скажите, какой чванливый нобиль! Не припомнить ли нам твою родословную?
– Ничего нет легче. Я не испытываю ложного смущения, называя своих предков. Мой отец отпущенник, сын римского всадника Камерия Дивеса и его рабыни-сириянки, мать моя – дочь гречанки из Тарента и торговца шерстью, наполовину лукана, наполовину оска.
– Клянусь Аполлоном, жаль, что в тебе нет еще умбрской, этрусской, иберийской, иудейской, галльской и разной другой крови, тогда бы уж истинно можно было сказать: «Вот малый, соединивший в себе целое человечество!»
– Самое главное, что моя смешанная и перемешанная кровь не кипит от гордости и не препятствует мне исполнять женские роли.
Остроумие Камерия располагало Катулла к взаимному веселью. Он напустился на юношу с шутливой бранью:
– О, ублюдок неизвестной породы! О, бесстыдник, носящий коротенькую тунику, чтобы показать свои стройные ноги! О, женоподобный Нарцисс, отрастивший локоны и покрасивший ногти, словно кокетливая девка! За тобой ведь бегают толпою все развратные старикашки в городе!
– Это восхищенные поклонники моего актерского дарования. Однако хватит обо мне. Прочти-ка лучше свои последние стихи.
Катулл разыскал среди разбросанных черновиков нужную табличку.
– Помнишь ли ты судебный процесс, на котором некто Коминий выступал с гнусным обвинением против смелого трибуна, пожелавшего облегчить судьбу запутавшихся в долгах граждан?.. Забыл, наверное?
– Отчего же, я помню. Все возмущались и проклинали Коминия, ставленника алчных ростовщиков.
– Так вот, недавно вблизи Форума я обратил внимание на отталкивающе желчного старика с крючковатым носом орла-стервятника. Зная, что особо отъявленных негодяев боги, как правило, наделяют соответствующей внешностью, я из любопытства спросил: «Кто он?» – «Коминий, – ответили мне. – Да, да, тот самый. По-прежнему является на собрания и отравляет воздух смрадным дыханием клеветника».
Держа перед собой табличку, Камерий продекламировал мальчишеским голосом:
В час, когда воля народа свершится, и дряхлый КоминийПодлую кончит свою, мерзостей полную жизнь,Вырвут язык его гнусный, враждебный свободе и правде,Жадному коршуну в корм кинут презренный язык.Клювом прожорливым ворон в глаза ненасытные клюнет,Сердце собаки сожрут, волки сглодают нутро.Какая беспощадная сила! Но берегись, такая отповедь может не понравиться кое-кому из влиятельных нобилей, друзей Коминия…
– Призвание поэта – не просто способность сочинять стихи, – сказал Катулл. – Это еще божественная откровенность, это смелость и честность, я думаю.
VIII
Лежа и уперев в колени вощеную табличку, Катулл переводил Каллимаха. Вот перед ним пролог и элегии великого александрийца – в них мифология оборачивается к читателю не героическим звоном мечей, не распрями бессмертных, а пестрыми картинами человеческой жизни.
Катулл выбрал трогательную легенду о юной царице Беренике.
Сразу после свадьбы муж ее отправился на войну. В день прощания Береника отрезала косу и возложила на алтарь как залог благополучного возвращения любимого. Боги приняли жертву: коса Береники вознеслась на небо и стала новым созвездием.
Легенда воплощена в живых и прекрасных поэтических образах. Нелегко создать перевод, в котором не потускнели бы стройные созвучия и уникальные познания Каллимаха. Может быть, эта маленькая поэма принесет скромному веронцу известность в городе сотен поэтов, в городе ожесточенного литературного соперничества…
Катулл грыз костяной стиль, быстро царапал ряды мелких букв, заглаживал их и снова царапал.
Нет, он не будет подражать изысканной иронии александрийца. Он напишет страстные и правдивые стихи о слезах разлуки и радости соединения влюбленных. И заговорит сама «коса Береники», ставшая по воле богов созвездием:
Тот, кто все рассмотрел огни необъятного мира,Кто восхождение звезд и нисхожденье постиг,Понял, как пламенный блеск тускнеет бегущего солнца,Как в им назначенный срок звезды уходят с небес,Тот же мудрец и меня увидал, косу Береники,Между небесных огней яркий пролившую свет…Начало, пожалуй, удалось. Но что-то мешало ему продолжить работу. Он не предполагал, конечно, что закончит перевод Каллимаха только через пять лет.
Его новые стихи ждут друзья и недруги. Друзья – чтобы расхвалить их без меры, недруги – чтобы наброситься на них с уличной бранью. Эпиграмма на гнусного Коминия возбудила противоречивый шум. Цинна назвал Катулла «бичом возмездия». На собрании у Катона его встретили восхищенными криками. Многие римляне переписывали эпиграмму, она ходила с рук на руки.
Были и еще недвусмысленные и насмешливые безделки. Одна из них, весьма нескромная, о его встречах с резвушкой Ипсифиллой, вызвала осуждение Фурия. Он заявил, что такие стихи пригодны лишь для пьяных солдат. Что ж, следует доказать всем (не только Фурию, разумеется) свою приверженность изящной поэзии, а себе – способность к тщательному и настойчивому труду. Постоянные застолья, зрелища, похождения утомляли и раздражали его. Наверное, он не создан для такой блестящей и бурной жизни, какую ведут молодые римские аристократы, ненасытные и скучающие. А он, бедняга Катулл, воистину деревенщина, привыкший к своей тихой Вероне и плеску озера у порога отцовской виллы. Может быть, ему не следовало покидать родной чертог, терять покровительство ларов[73]? И он услышал бы свадебные песни и нежный зов прелестной, любящей девы… Но честолюбивый веронский муниципал распорядился иначе: одного сына послал служить в далекую Вифинию[74], завоеванную недавно Помпеем, другого – в столицу, надеясь на его выдвижение среди смут, заговоров и интриг.
Гай Катулл не оправдывал надежд отца, он проявил себя только поэтом. Свои антипатии он выражает стихами и не думает выступать с речами на Форуме.
Ему двадцать семь лет, юность ушла, но что он узнал о вечном, могучем и возвышенном влечении человеческих душ? Он знает лишь доступное и всеобщее: сговорчивые деревенские девчонки, покорные рабыни, дебелые похотливые провинциальные матроны а здесь – всякие остроумные подружки, развязные актрисы и взбалмошные поэтессы.
Катулл поднялся и в тоске бродил по комнате. Позвать Тита? Выпить вина? Нет, хватит бесконечных возлияний. Что же он ищет? В жизни, в поэзии, в любви?
Он подошел к шкафу и, держа светильник, задумчиво разглядывал книги. Часть он привез из дома, но большинство купил в Риме, рыская по лавкам и истратив уйму денег.
Вот великая Сафо[75]! К ней стремится его сердце через бездну невозвратимого времени, преклоняясь перед ее волшебным, божественным даром. И эта женщина жила пятьсот лет назад! Всемогущий Юпитер, златокудрый кифаред Аполлон и ты, Киприда пенорожденная, как вы могли допустить вечную разлуку между ними – юношей из Цизальпинской Галлии и гречанкой с острова Лесбос?..
Она возглавляла девический союз в городе Митилены. Собираясь, жрицы Муз слагали торжественные гимны, безумствовали, как менады, в экстазе священных плясок, но, преисполненные вожделениями юности, опасались грубого прикосновения мужской руки. Впрочем, легенду о лесбиянках придумали позднее, в эпоху победоносно развившихся пороков…
Сафо «фиалкокудрая, сладостно смеющаяся» – так называли ее поэты. В любви она стала соперницей своей дочери. Не смогла устоять перед призывом судьбы и холодом спасительных размышлений, сдержать бурю страсти.
«Словно ветер, с гор на дубы налетающий,Эрос души потряс нам…» – стонала Сафо.Ее славили в песнях. Ее изображения чеканили на монетах и высекали из мрамора. Ее называли десятой музой Эллады. Но смазливый Фаон был честен и глуповат. Он предпочел свежесть девчонки и пугался страдания во взгляде гениальной матери. Сафо бросилась со скалы в море. И вот через пятьсот лет скорбит о ней, как о потерянной навсегда возлюбленной, только он – мятущийся, одинокий Катулл.
За окном неслышно кралась душная ночь, обволакивая уснувший сад тяжелой истомой.
Катулл вышел в переднюю комнату, напился из кувшина теплой воды. Тит, задрав седоватую бороду, негромко и уютно похрапывал. Катулл посмотрел на него, в чем-то ему позавидовал и вернулся на свое ложе. Взял табличку, будто предупреждая себя, написал:
От безделья ты, мой Катулл, страдаешь,От безделья ты необуздан слишком.От безделья царств и царей счастливыхМного погибло.Протянул руку, хотел привычно выправить фитиль, но светильник горел ровно, желтым оцепеневшим язычком. Катулл снова задумался о Сафо. В старину сохранялось множество портретов лесбосской поэтессы. Теперь остались лишь описания. Она была маленького роста, черноволосая, глаза как маслины, очень смуглая, с печальным и нежным ртом. Такие женщины всегда нравились ему больше других. Они похожи на южный плод, опаленный зноем.
Разворачивая свиток с гимнами и эпиталамиями Сафо, Катулл словно искал подтверждения своим странным мыслям. Остановился на переложении древнего свадебного песнопения. Он знал его давно, но прежде воспринимал спокойно. Теперь все переменилось в нем: словами Сафо он мог бы признаться ей самой в своей безнадежной страсти, если бы перед ним вдруг возник ее бледный призрак.
Катулл начал перевод трепетных и мучительных стихов гречанки:
Кажется мне богоравным или —Коль сказать не грех – всех богов счастливей,Кто сидит с тобой, постоянно можетВидеть и слышать Сладостный твой смех…Тит с утра пораньше сходил на рынок, купил сыра и овощей. Когда он вернулся, Катулл еще спал, устало и безмятежно. Тит заглянул в комнату, увидел Гая Валерия среди беспорядка книг и исписанных табличек, покачал головой и пробормотал:
– Чего всю ночь себя изводит? Ну как есть одержимый.
Потоптался у порога и позвал спящего тихонько – то ли жалел его, то ли уважал все-таки:
– Гай Валерий… Ты приказывал разбудить тебя пораньше… Вставай же!
Катулл открыл припухшие светлые глаза и лукаво пропел:
– А… почтеннейший Тит… Ну, как наши дела, земляк?
Старик сразу разомлел, растрогался. А что, ведь они, можно сказать, из одной деревни…
– Доброе утро. Уж рынки торгуют и улицы полны народа. Наш толстопузый Гней Стаберий пошел навещать приятелей и лебезить перед знатными. А его бесстыжие рабыни глазеют на прохожих и задирают подолы выше колен. Выпей-ка молочка натощак. И мутить не будет, и колики в боку пропадут. Так-то здоровее, не то, как римские бездельники: чуть свет вино хлыщут…
– Ох, земляк, – засмеялся Катулл, – так ты прекрасно все описал – дальше некуда. Прямо, Луцилий[76] ты, Тит! Сарказм у тебя природный!
Тит опять помрачнел: какой там еще Луцилий? Наверное, какого-нибудь стихоплета вспомнил, не иначе.
– Это убрать? – спросил Тит, показывая на беспорядок.
– Не надо, оставь. Приготовь мне голубую тунику, помнишь? И выглади хлену…
– О, боги, опять! – не выдержал Тит, но осекся и сказал с сожалением: – Сейчас приготовлю, не беспокойся.
Катулл тщательно пригладил волосы, опрыскал себя духами. Тит держал перед ним зеркало и вздыхал.
Вошел Цинна, надушенный и разодетый.
– Гай, ты готов? Ужасная жара… Наши разопревшие поэты согласились с предложением Фурия провести день у реки.
– На той стороне?
– Еще бы! Никого не тянет окунуться в стоки ста тысяч нужников. Перед Яникулом[77] вода чище, там римские богачи и понастроили купален для своих жен…
Беспечно болтая, они вышли на улицу. Пылающее солнце висело над Римом. До полудня было далеко, но город уже напоминал раскаленную жаровню.
– В наше время женщины не ищут особых достоинств в мужчинах, кроме одного, разумеется, – рассуждал безусый философ Цинна, набрасывая на голову край белой тоги.
– Слушай-ка, дружок, – воскликнул Катулл, шутливо всплеснув руками, – уж не собираешься ли ты написать очередной трактат о падении нравственности?
– Ну, столь пошлая тема меня пока не прельщает. Впрочем, я сочиняю нечто, имеющее косвенную связь с греховностью окружающей жизни…
– Это поэма? Да говори же, Цинна!
– Содержание таково. Кипрская царевна Смирна горит преступной любовью к своему отцу. Она добивается взаимности и гибнет, настигнутая гневом богов. Я задумал описать эту историю, не отвлекаясь на подробности внешнего отображения событий, а погрузившись в глубины запретных чувств. Не знаю, удастся ли мне, но в моей поэме все должно быть в переплетениях сложных и изящных иносказаний, как у многомудрого Эвфориона[78]…
– Музы да пошлют тебе вдохновения, – сказал Катулл и, улыбнувшись, добавил: – Постарайся все-таки выходить иногда из дебрей александрийской учености на доступные всем поляны здравого смысла.
Цинна промолчал. Он побаивался Катулла и предпочел не распространяться больше о своей поэме.
Рим гремел от буйства крикливых и праздных толп. Обливаясь потом на солнцепеке, друзья с досадой ждали, когда пройдет медлительная храмовая процессия, направлявшаяся на Капитолий, затем проталкивались через галдящее скопище пьяниц у плебейской попины[79], дважды попадали в опасную сумятицу, затеянную клиентами соперничающих магнатов, и едва избавились от наглого преследованья уличных гадальщиков…
Вокруг происходило нечто невероятное. Граждане заполнили улицы, как в дни радостных Сатурналий[80]. Они двигались взад и вперед, окружали то здесь, то там какого-нибудь горластого оратора, спорили и размахивали руками. Знатных сопровождало иной раз до полусотни телохранителей, грубо расталкивавших толпу. Затевались ссоры и драки – походя – как обязательный ритуал. И все эти озабоченные, взволнованные римляне, подобно неудержимому морскому приливу, спешили к Форуму.
– Нет, больше вытерпеть невозможно… Я задыхаюсь, – простонал Катулл в полном отчаяньи. – Надо было остаться дома…
– Ничего, как-нибудь выберемся из этого сборища сумасшедших, – сказал Цинна, отдуваясь и вытирая с лица капли пота.
Они обошли Форум по крутым извилистым переулкам, спустились к Большому цирку и, оставив слева от себя храм Фортуны, по деревянному Сублицийскому мосту перешли Тибр.
Веселое общество, укрывшееся от жары в тени дубов и акаций, встретило друзей приветственными возгласами и остротами. Повсюду на траве и на прибрежном песке были разостланы цветные ткани, стояли корзины с фруктами. Рабы помогали гостям снять одежду и подавали им чашу с охлажденным вином.
Смуглый Тицид играл в двенадцатилинейные шашки с Валерием Катоном, а вертлявый Аврелий мешал им, приставая с советами и объявляя о результатах каждого хода. Женственный юноша Асиний Талл кутал в полосатый сирийский плащ изнеженное, дряблое тело. Он сердито крикнул на Аврелия хриплым от пьянства голосом и вызвался судить игру «с беспристрастием Миноса»[81].
– Убирайся, – сказал ему Тицид. – Твой двоюродный брат, умница Поллион[82], достоин был бы стать нашим судьей, но ты, негодник, только позоришь честнейшего Поллиона… Я боюсь, что ты утащишь у меня из-под рук фигурку.