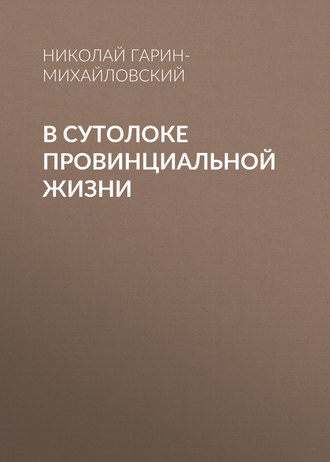 полная версия
полная версияВ сутолоке провинциальной жизни
Был объявлен перерыв.
– Ну, что ж, – усмехнулся кто-то, вставая и обращаясь ко мне, – разница уж не такая большая выходит между широкой и узкой колеей, а удобства широкой колеи…
Мой товарищ по выпуску, докладчик по моему делу, особенно энергично оспаривавший меня, сказал:
– Да бросьте же вы к черту эту узкую колею: выстройте себе широкую, мы ведь не против, дадим ее вам, – самому же по крайней мере не стыдно будет ездить потом.
Члены совещания слушали и смеялись. Я не оставался в долгу.
– В этом-то и несчастье, – отвечал я, – что слово «стыдно» командует над экономической жизнью страны.
– Ну, поехал…
Когда раздался звонок председателя и мы опять расселись в громадной комнате вокруг стола, занимавшего почти всю комнату, докладчик, мой товарищ, возобновил свои нападки.
– Я не вижу также оснований, – говорил он, – при широкой колее класть двадцатидвухфунтовый рельс: восемнадцатифунтовый…
– Но тогда, – дружелюбно заметил ему один из членов заседания, – подвижной состав наших главных линий не будет же годиться.
– Тогда положим старые рельсы, – поправился докладчик.
Положить старые рельсы, – значило выдать их из запаса без цены, и следовательно и цена рельс вычеркивалась из расценки. При таких условиях широкая колея грозила выйти даже дешевле узкой.
– Но у вас в запасе нет этих старых рельс, – в отчаянии возражал я.
– Для ста верст найдется.
– Но ведь это не принципиальное решение вопроса.
– Мы здесь и не уполномочены на это, и вас никто не уполномочивал; мы решаем частный простой вопрос, как экономичнее выстроить вашу веточку в сто верст.
Я думал: «Решаем частный простой вопрос, как проще провалить вашу веточку».
И с каким злорадством подчеркивалось ничтожество этой веточки в сто верст.
Счастливая мысль пришла мне в голову.
– В таком случае, – сказал я, – если у вас действительно есть в запасе старые рельсы, так давайте их и для узкоколейного типа, – мы будем иметь возможность тогда пускать пятидесятивосьмитонные паровозы с подъемной силой в тридцать вагонов, а во всех трех расценках стоимость рельс вычеркнется.
Все рассмеялись.
– Хитрый, – усмехнулся и мой оппонент, и вопрос о старых рельсах был оставлен.
– Хорошо, старые рельсы мы оставим, – продолжал он, – но почему же на метровый одиннадцатифунтовый рельс, а на шестьдесят сотых метра – восьмифунтовый?
– Одиннадцатифунтовый, – отвечал я, – выдержит сорокатонный паровоз и поезд из двадцати вагонов, а восьмифунтовый только двадцатитонный и десять вагонов. В последнем случае, конечно, лишний эксплуатационный расход, но он навёрстывается в колее в шестьдесят сотых метра и меньшим строительным капиталом.
– Туманно…
И совещание постановило в обе узкие колеи ввести восьмифунтовый рельс. Я не настаивал, потому что в первоначальном проекте прошла колея в шестьдесят сотых.
– Если метровая пройдет, – возразил я своему товарищу, – после заседания я буду протестовать.
– На здоровье.
При наших схватках с товарищем старшие члены совещания держались в стороне, сочувствуя в общем моему товарищу.
У некоторых из них было заметно раздражение против меня, может быть, как против человека, желающего сказать какое-то новое слово им, умудренным опытом и знанием. Может быть, видели во мне выскочку, который желает выехать на модном, хотя и своем собственном коньке – удешевлении. Большинство, впрочем, лично были даже расположены ко мне, но просто считали меня человеком, увлекающимся ложной идеей.
Один инженер, идеально честный, прекрасный администратор и практик, которому в жизни, горячась, я сделал много зла и несправедливости, вовремя одного из перерывов резко сказал мне:
– Таким, как вы, волчий паспорт надо выдавать: всеми этими удешевлениями вы губите строительное дело.
– Это тем, что я мост-то без облицовки буду строить, – отвечал я ему, – тот мост в степи, который увидят только волки и зайцы? Что тип станции-дворца я подведу ближе к типу прежней почтовой в интересах, чтобы у всех такая же станция была? Ну и выдавайте мне волчий паспорт…
Горячие схватки начались, когда пошло обсуждение типов и цен.
Положение вещей было совершенно обратное обычному рассмотрению расценок.
Обыкновенно начальник работ в предвиденье всяких случайностей постройки выторговывал возможно высшие цены. Здесь же наоборот: со мной торговались, находя выставленные мною цены низкими, прямо невозможными к выполнению.
Самые благоразумные, самые расположенные говорили мне:
– Но вы сами себя подводите: назначьте выше цену, дайте экономию, и слава вам.
– Слава мне, а я хочу принципиальной постановки. При ваших условиях всякая экономия всегда может быть объяснена, как случайное явление, а я говорю об экономии обязательной: упрощением типа, вплоть до крестьянской избы, употреблением местного материала в дело: липы, осины – материала, который строительным уставом нашим по рутине не признается…
– Потому что он действительно никуда не годится, – фыркнул инженер-практик.
– Но мой дом в деревне из осины стоит шестьдесят лет.
– Оштукатуренный?
– А кто мешает и здесь оштукатурить или обшить тесом, чтобы предохранить от соприкосновения с наружным воздухом?
Меня поддерживали только представитель финансов и контроля.
– Да бог с ним, – говорил представитель финансов, – хочет сам на себя петлю надевать, пусть надевает, а может быть и выгорит, а вы в протоколах оговорите, что цены начальника работ признаете низкими до невозможности.
Так и сделали в конце концов.
– Петля надета, – говорил мне после последнего заседания мой товарищ, выходя в двенадцатом часу ночи со мной на подъезд, – и за ноги даже вас не надо тянуть, – силой закона тяжести затянетесь сами…
– Затянусь я, а вопрос поднят.
– Ничего не поднят. Ведь вы поймите: хоть одна копейка перерасхода, и дело все равно дойдет опять до Государственного совета, и тогда провал ваш обеспечен: копейка, миллион, – важен ведь факт перерасхода…
Раздражение его против меня улеглось, он говорил приятельским тоном, вперед сочувствуя моей неудаче.
– Вы только дело не тяните, лето на дворе, – отвечал я.
Он развел руками.
– Вы не один, и то сколько времени мы с вами потеряли… Кроме вашей ветки, сорок тысяч эксплуатационных верст да все постройки, – и там и сям все вопросы перереши до последней шпалы, а ведь вы же знаете нашу организацию…
– Я знаю, что на вас вертится все дело, но, говоря серьезно, не можете же вы один решать за всех в России, решить все, до последней шпалы. И почему все могут ошибаться, а вы, почти не бывавший на полевых работах, всю жизнь работая в кабинете, – почему вы непогрешимый?
– Я вовсе и не претендую на непогрешимость, но факт налицо.
– Налицо и тот факт, что при такой централизации, недоверии к силам других ответственного за дело нет.
– Вы знаете, сколько я сплю? Не больше четырех часов. До одиннадцати вечера вот тут протолчешься, да дома часов до трех, чтобы подготовить на завтра. И сон тяжелый, кошмарный, со всей копотью и дымом этих заседаний… Нервы, конечно, не выдерживают… раздражение…
– Ну, зато вы и на очереди к карьере, к почестям.
– На очереди? Я измочален: десять лет едут на мне! Я лопну с почестей ваших…
Сутуловатый, водянистый, он еще ниже пригнулся и, кашлянув, сплюнул. Какая-то сложная музыка заиграла у него там, в груди, он устало сказал:
– У меня ведь астма…
И, прибавив: «ну, прощайте», зашагал в темноте улицы по мокрым от дождя плитам тротуара.
В начале апреля все три расценки пошли, наконец, в Государственный совет. Пошли со всеми оговорками и протоколами совещания. Но над всем этим доминировало коротенькое замечание министра, в котором и признавалась, с одной стороны, возможность перерасхода, но, с другой – в интересах опыта удешевления, он полагал бы оставить цены начальника работ без изменения.
– Скажите, – спросил я своего товарища, – сколько еще времени все это протянется?
– Не меньше месяца, а то и два.
– Значит, половина строительного периода пройдет, – я не успею ведь…
– На будущий год успеете.
– Но штат рассчитан до первого февраля всего.
– Новый испросим.
– Тогда ведь будет перерасход.
– А вы всё еще до сих пор всё думаете, что у вас не будет перерасхода? Слушали бы умных людей, лучше было бы.
– Не будет, потому что я уже начал работы.
– Как начали?
– Так начал за свой счет и страх.
– А если не утвердят? Вы о двух головах?
– Да как же иначе? Вы же, например, сами меня обязали из дубового леса строить мосты. Дуб не рыночный товар, – его еще надо срубить в лесу и пока он листвой не оделся, – дуб, рубленный в листве, вы же сами забракуете.
– Обязательно.
В начале мая мой товарищ сказал мне:
– Ну поздравляю: дорога утверждена, метровая колея.
Я уже знаю это, знал, что в Государственном совете мое дело докладывал товарищ министра и высказался в том смысле, что находит возможным довериться мне в моей попытке. Мне это рассказал тот самый инженер, который проектировал выдать мне волчий паспорт.
– Я враг ваш принципиальный, – кончил он, – но тем не менее как человек от всей души желаю вам успеха. Дело очень серьезное и ответственное. Здесь не должно быть места ни задору, ни увлечениям.
Присутствовавший при нашем разговоре товарищ мой инженер, – крупный подрядчик, – весело перебил говорившего:
– Да не желайте вы, пожалуйста, ему никаких успехов: чем скорее провалится, тем лучше; и без того цены испорчены так, что, кроме убытков, – ничего…
– Чьи убытки – казны или его, – он благоразумно, как настоящий уже подрядчик, не договаривает, – вскользь заметил мой собеседник и, обращаясь ко мне, кончил:
– При благоприятных обстоятельствах может быть и успех. Во всяком случае очень и очень ответственное дело.
XXVI
Еще около месяца прошло. Все, собственно, уже кончилось, но какая-то скучная канцелярская волокита тянулась без конца. Я давно жил на даче. Каждый день из Царского я отправлялся в Петербург с надеждой выехать сегодня и возвращался все с тем же: «Завтра».
Каждый день был так похож на предыдущий, что все уже приобрело род привычки, налаженности.
К девятичасовому поезду я отправлялся на вокзал.
Яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых тенистых деревьев.
По укатанному шоссе Царского Села идут и едут: поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска.
На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные, – нечто вроде хорошенько вычищенного, но поношенного уже платья.
Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки.
Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар, – зашумел и зашипел, – а в вагоны торопливо входят один за другим пассажиры. В числе их и я. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным большею частью мелким злобам дня.
На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочку: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он – мало думающий о своем туалете студент, – у них обязательных дел нет, и они счастливы, или, вернее их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом, в жизни.
Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна первого класса.
Он туповато смотрит в окно мимо против него сидящей, в большой шляпе, не старой, но и не молодой уже дамы, – очевидно, его сожительницы.
Очевидно, потому, что интереса на лицах нет: равнодушие, апатия. Глядя на них, так и видишь возбуждающее их к жизни: приготовленный карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного – во избежание глупых ссор – согласия, партнеров, легкую закуску в столовой; тогда им обоим не так скучно будет на свете, а временами, после удачной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все, вся и самого себя, даже и совсем хорошей покажется эта жизнь.
Во всей половине этого отделения для некурящих сидят люди хорошего тона, чопорные и скучные: их жизнь вылилась в недосягаемую для многих и не интересную для всех, кроме их самих, скучную форму установленного этикета. В свое время незаметно, без следа и сожаления сойдут с подмостков жизни мишура времен вместе с своими этикетами.
До этих следов времени никакого дела нет в отделении первого класса для курящих.
Там жизнь данного мгновения и следы его: облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах и насвистывания мотивов последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи: две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть, и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух штатских.
– Ох-хо-хо! – потягивался, заломив руки за голову, высокий, широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар.
– Что? – одобрительно спрашивает его более пожилой сотоварищ.
– Спать хочется, – добродушно и смущенно признается белокурый гусар.
И все смеются, выдан какой-то секрет, сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании.
В Рогатке садится мой сослуживец – важное лицо в нашем министерстве.
– Как дела?
– Держат, – отвечаю я.
– Продержат еще с месяц, – уверенно, спокойно говорит важный.
– Но тогда, пропустив рабочую пору, – горячо отвечаю я, – что ж я сделаю?
Важный молчит и потом удовлетворенно, каким-то трескучим голосом говорит:
– Ничего, конечно, не сделаете.
– А лишний год администрацию содержать, лишних сто двадцать тысяч из казенного кармана?
Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:
– Надо войти и в их положение: Россия – страна размеров необычайных.
– Это и надо бы принять во внимание: за всех не передумаешь…
Собеседник лениво бросил:
– Приходится, однако, думать. Петербург. Месяц еще продержат – и с этим помиритесь.
Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, я за ним, беру извозчика и еду в министерство.
Большой знакомый желтый дом.
Ну, конечно, швейцар и поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.
Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться. А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам. А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление того, что пришел все-таки как-никак к своим. В ожидании я слоняюсь по коридорам и думаю: ведь, в сущности, в общем люди добродушные и незлобливые, но такова уже сила вещей.
Двенадцатый час. Я стою перед низеньким, плотным, добродушным сгорбленным стариком, или не стариком – кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, помятое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.
– Утвердили, – говорит он мне не то радостно, не то вопросительно.
Это приветствие я слышу уже в десятый раз.
– Если утвердили, так за чем же задержка?
– Да ни за чем.
– Ну так, значит, строить можно: давайте кредиты!
Иван Николаевич рассеянно говорит:
– Ишь, скорый какой!
– Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, – ведь четыре месяца…
– Да что вы, господь с вами, какие четыре?
– Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца…
– Ну-у!
Иван Николаевич машет добродушно рукой и уже заговорил с другим. Я терпеливо жду.
– Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть.
– Сделайте одолжение, – сухо говорит Иван Николаевич.
– Иван Николаевич!
– Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.
– Иван Николаевич, пожалейте же… ну, зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два, – наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Почему вам не вникнуть сейчас, когда еще не поздно, зачем томить, мотать душу.
– Ах, господи! Ну, что вы пристали, ей-богу?!. Что я могу здесь сделать?
– Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?
Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:
– Пойдем.
Иван Николаевич ведет меня через целый ряд комнат со множеством столов, где у каждого стола сидит чиновник с озабоченным лицом и что-то перекладывает.
– Ивановское дело! – раздается торопливый голос подбежавшего и скрывавшегося уже тоже озабоченного чиновника.
– О, господи! ему ивановское, тому петровское, черт его знает, за какое и браться! – Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупо огорченно смотрит-смотрит и вдруг, вспыхнув, быстро складывает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.
– Почему мы не может открыть им кредитов? – подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.
– Каких кредитов? – спрашивает чиновник.
Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.
– Да вот, – говорит Иван Николаевич и, прерывая сам себя, вдруг уже другим, оживленным голосом спрашивает: – Николай Васильевич пришел?
Чиновник оставляет петровское дело и в тон отвечает:
– Пришел.
Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.
Все четверо взасос слушают.
– Надо самому идти, – говорит Иван Николаевич и уже идет.
– Иван Николаевич, голубчик, – чуть не за фалды хватаю я его, – кончим уж мое-то дело.
Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на меня, точно впервые видит меня, и рассеянно говорит чиновнику:
– Послушайте, разберите вы вот с ними… – И Иван Николаевич скрывается в дверях.
– Да чего вы собственно хотите? – спрашивает меня чиновник.
Так как этому господину я еще никогда ничего не говорил, то и начинаю с Адама и дохожу до момента своего стояния перед ним.
Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, потеряв, очевидно, всякую нить моего рассказа, говорит, когда я смолкаю:
– Да ведь это в канцелярию министра.
Я смотрю на него во все глаза.
И чиновник в свою очередь уже немного сконфуженно смотрит мне тоже прямо в глаза:
– Вам чего, собственно, надо?
Я в полном отчаянии – начинать опять с начала? Входит неожиданно Иван Николаевич, берет меня под руку и говорит:
– Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что смета к нам не препровождена еще.
– Как не препровождена? Да неделю, как уже препровождена!
– Не может быть!
Идем в регистратуру, Иван Николаевич прав.
Я лечу в третий этаж к своему товарищу по выпуску.
– Послушайте, батюшка, – говорю я, – оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили.
– Как не препроводил? – препроводил.
– Да нет же!
– Что вы мне рассказываете!
Идем в регистратуру. Действительно, не препроводил.
– Куда же я препроводил?
Товарищ берет журнал и внимательно роется сам. Эврика! Он препроводил, но не смету.
– Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил… Черт его знает! Нет сил! – Он бежит к себе, опять роется на своем столе – сметы нет.
– Председатель просит! – заглядывает озабоченно курьер.
Товарищ бросает меня и идет в кабинет председателя…
– Дело Шельдера у кого? – выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета председателя.
– Шельдера, Шельдер?!
Дела Шельдера ни у кого нет.
– Оно у Шпажинского, – говорит чей-то голос. Шпажинский сегодня не пришел.
– Зарез полный, – по делу Шельдера требует справки председатель, Шпажинский не пришел, – какая это служба?! Ей-богу, точно гостиница, – несется ворчанье из кабинета моего товарища.
– А удачное сравнение, – затягивается и весело подмигивает мне молодой с вызывающими и смеющимися глазами чиновник-инженер.
Он смолкает, потому что входит мой товарищ и роется в столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.
– Тьфу! – облегчает себя товарищ, – ну, уж это, прямо можно сказать свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.
Товарищ уходит в кабинет председателя, а молодой чиновник растолковывает мне:
– Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну что ж, потерять место в восемь тысяч?
Я пожимаю в ответ плечами и без мысли выхожу в коридор, а оттуда к двери председательского кабинета, чтобы не пропустить товарища, который там теперь у председателя.
Тут же у дверей в ожидании очереди слоняется с папкой и Иван Николаевич.
– Ну, что? – спрашивает он меня.
– Нет сметы, – развожу я руками.
– И в претензии, батюшка, нельзя быть, – добродушно говорит Иван Николаевич.
Оба мы отходим к большому окну, оба облокачиваемся и смотрим из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:
– Ну вот вы сами считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только подержать каждое дело в руках, пять минут, – много ли? А ну-ка посчитайте.
Иван Николаевич, заинтересовавшись задачей и смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:
– Десять тысяч, двадцать тысяч… по пяти минут – сто тысяч разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть… Это что же будет? тысяча шестьсот часов… Ну хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов, – на семь… два… двадцать, ну хоть три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг двадцать пять дней… сегодня двенадцатое, – вдвое выходит!.. Так ведь пять минут всего… А с вами одним сколько? Что ж тут сделать можно??
– Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все, – огорченно отвечаю я.
– Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих… За день-то голова в пивной котел и вырастет.
– Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете ли – лучшее время уходит… я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уж месяц телеграфирую домой, что завтра выезжаю… Не знаю даже, что и делается там теперь…
Очередь Ивана Николаевича к председателю, потому что товарищ мой вышел.
Товарищ бежит и на ходу решительно кричит мне:
– Батюшка, завтра, – сегодня секунды свободной нет!
– Но завтра будет?
– Будет, будет, – доносится успокоительный голос товарища уже с верхней лестницы.
Я провожаю его глазами, – какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска в то же время. Что теперь делать? Два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.
XXVII
В июне, наконец, меня выпустили, и я уехал на родину, к месту работ. Моих средств хватило на организацию только земляных работ и на заготовку леса. Все остальные работы – мосты, гражданские сооружения и прочее – стояли без движения.
Время для дешевой организации, системой мелких рядчиков – было пропущено.
К этой системе прибегает всегда крупный подрядчик и зарабатывает этим тридцать – сорок процентов. Отстраняя крупного подрядчика, имея дело непосредственно с мелким рядчиком, казна кладет в свой карман эти тридцать – сорок процентов. Но здесь есть и риск: рядчикам надо давать авансы. Из десяти рядчиков – один сбежит. Остальные девять с лихвой оплатят, конечно, потерю – это хорошо знает опытный подрядчик, но казна убытков не признает, – за девять рядчиков она выгоду получила, а за десятого взыщет со строителя. Вот почему этот способ мало практикуется казенными строителями, и предпочитается. ему или крупный подрядчик, или же способ хозяйственных работ. В последнем уже сама казна работает все: нанимает поденных, покупает инвентарь, кормит лошадей. Здесь чиновник-инженер сразу превращается в сельского хозяина.











