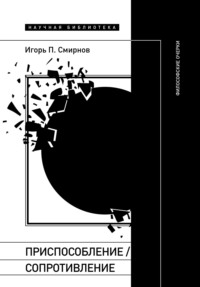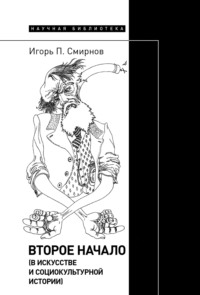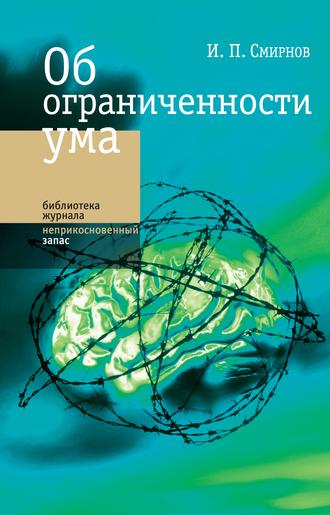
Полная версия
Об ограниченности ума
Сеть – вот метафора, покорившая всеобщее воображение и реализованная во всевозможных практиках – вплоть до организации исламистского террора («Тятя, тятя, наши сети / Притащили мертвеца»). Политэкономия видит в сетевом устройстве главное, чем характеризуется капитал на его сегодняшней стадии эволюции[9]. Та же самая сеть – последняя объяснительная инстанция в исследованиях по архитектуре человеческого мозга, модель которого нейрологии (забывшей о церебральной асимметрии, о биомеханизмах взаимодополнения и доминирования) хотелось бы перенести на социокультурную действительность, дабы та, как проповедует Жан-Пьер Шанжо, опять получила форму античной агоры[10] (разве агора не принимала окончательных решений, центрировавших ее, упразднявших равенство голосов в преобладании одной точки зрения над прочими?). Европейское Сообщество постепенно превращается из союза стран, принявших на себя обязательство подчиняться общим для всех них правилам, в сетевую организацию, в которой на передний план выходят национальные интересы, при том что межгосударственные связи еще остаются в силе. В сети не бывает прогрессирующего движения, ее узлы аналогичны друг другу, и она как нельзя лучше подходит для самопонимания и понятийной репрезентации, предпринимаемых той современностью, которая исчерпывается собой, разрастается без перехода в Другое. Метафора сети пространственна, не темпоральна (время не может течь сразу в разные стороны, что должно было бы случиться, если бы оно вдруг стало сетевым). Плетеное покрывало Майи не отделяет более людей от доподлинного, а являет собой сущность существования.
Многие из тех фактов, что я привел (их перечень было бы нетрудно продолжить), хорошо известны – они у всех на слуху, обращенному к массмедиа. В скрытности не только от тех, кто бездумно относится к этим фактам как к саморазумеющимся, но и от тех, кто занят концептуализацией нашей современности, пребывает то, что мы попали в тупиковое время, в безвыходную ситуацию, в преддверие такого положения дел, которое homo historicus, то есть любой из нас, не в состоянии помыслить.
Апологетизация неоригинальности в качестве непреложной данности взяла старт в 1990-е годы. В статье «Будущее принадлежит тавтологии» (1995) Борис Гройс писал о том, что перезаполненность социокультурного архива единицами хранения отбирает у этого вместилища ценностей функцию цензуры, устанавливающей, чтó действительно ново, чтó подлежит удержанию в коллективной памяти. Раз этот критерий перестает работать, по ту его сторону в силу входит «совершенная тавтология» (тривиальное искусство, китч и тому подобное). Гройс предупреждает, что упрочение тавтологии чревато нигилизмом (отрицанием ценностей как таковых), но все же пафос его заметок заключается не в сетованиях по поводу наступившей ситуации, а в опровержении «универсальной истории», якобы завершившейся, распавшейся на множество «парциальных» потоков[11]. Гройс противоречит сам себе: если у нас нет ничего, кроме «тавтологии», то «универсальная история» продолжается, хотя бы и в ином, чем прежде, обличье. Гройс не просто регистрирует грянувшие в социокультуре перемены, он выражает их, выступает их глашатаем и потому – вразрез с собственной логикой – готов пожертвовать всем бывшим ради безоговорочного обособления современности, а не современностью – с целью критического понимания таковой в качестве подражания истории. Неоригинальность имеет у Гройса, если разобраться, новаторскую окраску[12].
Спустя без малого два десятилетия после публикации статьи Гройса тем же размышлениям, что и он, предается Валерий Подорога в работе «Kairos, критический момент». Перед нами вовсе не плагиат[13]. Оправданию современности трудно сдвинуться с исходной точки, как и ей самой. Оно мультиплицируется в самобытных текстах. Искусство конца XIX – начала XXI века питается, по мысли Подороги, только настоящим, отказавшись от прогнозов и предпочитая забывание припоминанию. Современность изымается Подорогой, как и Гройсом, из исторического времени. Но Подорога куда откровеннее, чем Гройс, впадает в противоречие, когда с подкупающим интеллектуальным бесстрашием заявляет: «Повторимое и есть то, что неповторимо…»[14] Хотелось бы узнать, а что же тогда неповторимое, но дождаться ответа на этот вопрос, боюсь, невозможно. Коль скоро настоящее противостоит всегдашней погоне за инаковостью, оно с неизбежностью авторепродуктивно, но, чтобы не представить его вырождением истории, Подорога совершает умственное salto mortale, выдавая вторичность за первичность. Впрочем, в формуле Подороги есть и своя правда: если в нашем распоряжении имеется только повторение, то за ним ничего нет, никакого инобытия смысла, никакой неповторимости. Абсолютизация повторения имплицирует неповторимость.
Последняя декада прошлого столетия была периодом, когда наша современность шаг за шагом канонизировала себя в текстах, так или иначе ниспровергавших оригинальность или не утаивавших собственную зависимость от уже бывшего сказанным, реставрирующих поколебленные ценности. Но уже раньше, в 1987 году, Бруно Латур взялся за компрометирование личной инициативности на материале технонауки (фундаментальные исследования он оставил в стороне – и немудрено: они не вместились бы в его модель). По Латуру, наука, рождающаяся в лабораториях, результат не озарений, а коллективного труда даже не столько по открытию до того неизвестных фактов, сколько по осуществлению контроля за общественным мнением, которое принуждается манипулятивными методами принять предлагаемый учеными продукт[15]. Суть изобретений – в их внедрении, себестоимости они не имеют. Ой ли? В позднейшей книге «Нового времени не было» (она до сих пор охотно цитируется гуманитариями, несмотря на уже солидный возраст) Латур поставил себе задачу развенчать понятие «модерности»: ведь человек всегда был «политемпорален», что не позволяет говорить о его продвинутости или отсталости. Если стратегия Гройса и Подороги призвана убедить нас в том, что история нового оборвалась, уступив место самодовольной, лишь с самой собой сравнимой современности, то Латур, напротив, тщится доказать (в весьма невнятной аргументативной манере), что новому и вовсе не было суждено когда-либо сбыться, и проецирует, таким образом, генеративную немощь настоящего на все человеческое прошлое. Мы ни модернистичны, ни антимодернистичны, провозглашает Латур, мы только пролонгируем прежние состояния социокультуры. Сочинение Латура успокаивает читателей эпохи безвременья: история была дерзанием лишь по намерению, которое ей никогда не удавалось исполнить[16].
Вопреки Латуру, нововременность – неотъемлемое достояние истории. Смысл модернистичности (впервые схваченный апостолом Павлом) в том, что она реорганизует из текущего момента сразу и прошлое, и будущее, так что современности предоставляется господство над человеческим временем в целом. Христос искупает первородный грех, с одной стороны, а с другой – предвещает явление «нового неба и новой земли» (предначертывает бессмертие при жизни). В качестве омнитемпоральной власти современность делается уникальной – беспрецедентной и стремящейся не допустить конкуренцию впоследствии. Христианство было единственной из «осевых» религий, учредившей веру в настоящее, в полноту того, что есть здесь и сейчас. Дальнейшие абсолютизации современности могли состояться в той мере, в какой были структурным откликом на христианскую темпоральность. Ренессанс опять перекроил прошлое, выдвинув в нем на передний план дохристианскую Античность, и заместил ожидание Второго пришествия социоантропологической перспективой, имеющей в виду способность общества к разумному самоустроению (максимальному в «Утопии» Томаса Мора, оптимальному в «Государе» Никколо Макиавелли). Возрождение воссоздало интенцию христианства, содержательно ревизовав ее, и тем самым закрепило за модернистичностью постоянное место в истории. Вступление человека в Новое время было лишь подтверждено ренессансной социокультурой. Но многим кажется, что именно она была здесь начинательницей. Этот исторический сдвиг объясним, если учесть, что она придала узуальность переходу от одной всемогущей современности к следующей и историзовала модернистичность, завещав ее грядущим поколениям. На самом деле, однако, наиболее успешной и оттого наиболее затянутой нововременностью было христианское Средневековье.
Теперешняя эпоха не только пуста футурологически, но и бессильна переделать свое ближайшее прошлое. Мне уже довелось писать о том, что мы переживаем технизацию и (во многом карикатурную) утилизацию тех головных конструкций, которые были возведены постмодернизмом в пору его зарождения[17]. «Ризомы» Жиля Делёза и Феликса Гваттари нашли себе инженерное воплощение в электронно-социальных сетях. Прославленный ими же номадизм обернулся переселением с Юга на Север (в Россию, Европу, США) беженцев и искателей лучшей жизни и рабочих мест. Пусть Лиотарова игровая модель социокультуры и была отвергнута благосостоятельными обществами, напуганными плюрализмом. Все же параллельный реальному мир компьютерных игр затянул в себя значительную часть молодежи, непродуктивно расточающей свою интеллектуальную энергию. Умаление авторского права в пользу безликой дискурсивности, произведенное Роланом Бартом и Мишелем Фуко, привело в итоге к распространению в электронном пространстве «пиратства», поддержанного возникновением политических партий, которые отстаивают свободу доступа к информации в интернете и попирают copyright. Вся система коммуницирования в Cyber Space с ее энтропийной открытостью для добавок (supplément) – не что иное, как перенос из диахронии в синхронию дерридианского отложенного означивания (différance)[18].
Упрочивающаяся начиная с 1990-х годов социокультура не более чем зеркально симметрична (как и полагается имитациям) по отношению к раннему постмодернизму. Озеркаливание непосредственно предшествовавшего нам переворачивает в ближайшем прошлом ценностные предпочтения. Если для Жана Бодрийяра и других постмодернистов первого призыва созданный человеком «символический порядок» подлежал ниспровержению как симулятивный, то наша современность реабилитировала симулякр, будучи им (по определению Подороги, «симулировать – это творить»[19]). Не располагающие творческой силой, чтобы преодолеть и превзойти ближайшее прошлое, наши дни знаменуются отсутствием глубокой дифференциации и внутри себя – неважно, в чем эта нехватка сказывается: в хозяйственном ли глобализме, в вечном ли (точнее, псевдовечном) возвращении мировых проблем (как будто подавленный в одном регионе, исламистский терроризм тут же возрождается в другом), в исчезновении ли из культурного обращения выдающихся творческих личностей и сенсационных художественных произведений. Захолустье стало планетарным, время в нем – осадочным слоем истории.
Остается надеяться на минувшее, как ни парадоксально это звучит. Нам еще предстоит переоткрытие истории – с тем, чтобы она явилась не той, что преподносится историографией – как череда войн, правлений, политических и административных мероприятий, цивилизационных стратегий, дающих обществу шанс на выживание и так далее, а той, что пока не написана, – историей преобразующегося Логоса, обновляющегося и тем самым конституирующегося Духа.
3Нет ничего более закрепощающего нас, чем обсессия – внутреннее рабство. В сосредоточенности на повторении человек налагает на себя сверхограничение, превосходящее любую частнозначимую канализацию действий и мыслительного труда. Отдельно устанавливаемые запреты предполагают, что есть сфера разрешенного; повторение, чем более оно навязчиво, тем более не разрешает ничего, кроме себя. Неизвестно, обретут ли компьютеры интеллект, но ясно, что человек не стал бы придатком электронных гаджетов, если бы не искал в машине своего двойника, своего по возможности полного, то есть не механического заместителя. Вступив в опасную связь с дигитальными устройствами, похожими на нас, во многом берущими на себя нашу умственную работу, мы перестаем интересоваться собой, погружаться в самопостижение, без чего человеческое существование не может быть автодинамичным. Место трансцендентального субъекта занимает оператор, подменяющий отнесенность к себе как к объекту отдачей приказов, адресованных электронному alter ego[20]. Именно из-за того, что modus operandi отбрасывает на задний план modus vivendi, в дигитализованном мире поверхностные мнения берут власть над углублением в сущность обсуждаемых проблем.
Неоригинальная, дублирующая саму себя современность неотменяема для большинства ее носителей (а если и упраздняема, то лишь в акте вселенской катастрофы). Тогда как ранний постмодернизм видел свою задачу в том, чтобы оставить позади все мыслимые границы, наши дни – по принципу антисимметрии – знаменуются не только приостановкой умственной трансгрессии (где они – новые идеи, революционизирующие наше знание?), но и фактическим запиранием государственных территорий – возведением заборов, разделяющих Израиль и сектор Газа, Македонию и Грецию, Венгрию и Сербию и так далее[21]. Общество сейчас все более и более напоминает исправительную колонию, неважно, кого оно хочет перевоспитать – курильщиков (повсеместно), любителей баночного пива, засоряющих алюминием окружающую среду (в Германии), матерщинников и гомофилов (в России) или, скажем, кинорежиссеров, чьи сценарии, размещенные в интернете, подвергаются нападкам со стороны синефилов, недовольных творческим своеволием своих кумиров.
Прокламировавший на первых порах всепроницающую трансгрессию, постмодернизм не хотел видеть в прошлом социокультуры никаких затвердевающих порогов: он размыл разделительные линии между историческими периодами и привнес неопределенность в генезис, то ли вовсе отказываясь говорить о нем, то ли полагая исходные пункты разных процессов самостирающимися, не допускающими реконструкции. В обратном порядке: тот, кто хочет понять текущую социокультуру с ее запретительским пафосом, должен обратиться к происхождению и истории тех самоограничений, которые человек примерял к себе на протяжении всего своего существования.
Эта проблема столь же фундаментальна, сколько и мало или недостаточно исследована. Те подступы к ней, которые читатель найдет в моей книге, – лишь самое первое приближение к ее решению. Приходится сокрушенно признать, что умственные способности не бескрайни и у того, кто изучает их рамки. Себя цензурирующее сознание бытует в великом множестве форм и продуцирует самые разные типы поведения, то более, то менее аскетического; охватить и упорядочить все это многообразие нельзя, пока у нас нет ответа на вопрос, что побуждает человека добровольно выбирать узкий путь вместо широкого. О том, где кроются причины того сокращения своих возможностей, к которому предрасположен homo sapiens, и написана книга. Для большинства антропологов философской складки человек выступает не до конца определившимся существом, посвящающим себя поискам идентичности, которая как бы убегает от него, принимает все новые и новые образы. В моем восприятии человек, напротив, всегда знает, кто он, в силу того, что не полностью использует свой потенциал, актуализует его лишь частично. Дисциплинирование, которому человек подвергает себя, есть способ его самоопределения. В своей уникальности среди остальных явлений жизни человек может придать себе некую однозначную отчетливость только посредством селекции, сокращающей вариативность его теоретической и практической деятельности. Как уникум он отрицает множественность своих ипостасей. Наряду с прочим мне хотелось показать в книге, что выход за рамки (например, в девиантном поведении) не столько дает человеку свободу, сколько представляет собой другой, чем принятый, вид несвободы.
Человек потерпел крах в своих попытках открыть им же запираемый горизонт ради обретения ультимативной свободы. Мы не вернулись в руссоистскую первобытность, в которой якобы не было ни малейшего искусственного подавления человека человеком; не свергли Бога (который, вопреки Ницше, вовсе не умер для большинства населения планеты); не расширили сознание мистическим путем; не приблизились ни на шаг к коммунизму, где каждый мог бы удовлетворять свои потребности; не стали безудержными эгоманами, эмансипированными от любых социальных обязательств, о чем мечтал Макс Штирнер; не отказались от этатизма в пользу анархии. Вместо широкой реализации всех этих надежд мы – при всем нашем умении обращать абстракции в зримые факты – пришли к социокультуре, отчаявшейся взирать на будущее со свободолюбием и готовой загнать себя в ловушку нарастающего запретительства. Когда и сочинять очерки несвободы, как не сейчас?!
Читателю, имеющему обыкновение заглядывать на последнюю страницу, я сразу же сообщу, в чем я усматриваю разгадку нашей потребности знать и маркировать пределы (или попросту: знать). Эта потребность возникает в человеке постольку, поскольку он различает не только то, что явлено ему извне, но и само различение. Он ограничивает себя в той мере, в какой контролирует – рационалистически или безотчетно – свою мысль о мире. Рефлексия находит в авторефлексии самотождественность и свою меру. Конечно же, нашу активность может урезать среда обитания, по той или иной причине (например, ввиду истощения ресурсов или катастрофических обстоятельств) оказывающаяся неблагопрятной для полноценной жизнедеятельности. Ныне эта ситуация разрослась до планетарного масштаба, что повлекло за собой призывы к аскезе и к сокращению технизированных усилий по эксплуатации природы[22]. Но было бы абсурдно полагать, что социокультура – альтернатива природе – внутренне упорядочена под воздействием наружных, естественных факторов. Человек организует свой универсум так, чтобы тот отражал дарованное нам самосознание. Во всех своих отраслях социокультура надзирает за собой, инспектирует себя, взять ли специализированные органы, следящие за поведением граждан, вроде полиции и суда, или церковь, ожидающую от прихожан исповедания в грехах, или институты художественной критики и кураторства, или интернет, который передает сведения о наших вкусах, нуждах и предпочтениях фирмам, рекламирующим свои товары, а также многое-многое другое – вплоть до соседа-вуайера, глазеющего в щелку забора на чужие дела. Всевидящий Бог – инстанция наблюдения за социокультурой в целом.
Натыкаться умственным взглядом на стесняющие нас препоны и преграды куда как менее радостно, нежели декларировать «апокалипсис апокалипсиса» (Жак Деррида) или прославлять номадизм, сметающий со своего пути все препятствия (Жиль Делёз и Феликс Гваттари). Тем не менее исследовательская мысль испытывает все большую необходимость приподнять завесу, которой классический постмодернизм отгородил себя от конечности человеческих дел, не убегающих в бескрайнюю даль потому уже, что они целеположены. Так, познавательная ценность предельности реабилитируется в совсем недавно выпущенной коллективной монографии «Конечность. О непостоянстве и ограниченности человека, природы и общества». Значимость этого своевременного труда умаляется, однако, тем, что его авторы толкуют знание о конечности как добываемое человеком исключительно из экстериоризованного опыта[23], например из страдательного переживания социальных потрясений, вызывающего потребность в стабильности и ужесточении общественного порядка. Теоретизирование такого рода покоится на предпосылке, согласно которой нас ограничивает Другое, чем мы сами. Она психологически объяснима: имманентность нам смерти страшит нас. В страхе мы бежим от себя, принуждены быть проективными (и только в любви, стоит попутно заметить, отрицаем quid pro quo со всей решительностью). В действительности Другое и Другой ограничивают нас так же, как мы – их. Я и мой антипод здесь равны. У индивида есть три способа, с помощью которых ему удается справиться с не-я: 1) слабый (если он подражает Другому и тем самым узурпирует его позицию), 2) сильный (если он уничтожает или подчиняет себе Другого), 3) абсолютный (если он становится инаковым себе в творческом акте).
В процессе трансцендентального самообуздания человек не столько подчиняется внешней реальности, сколько соревнуется с ordo naturalis – с животным поведением, диктуемым инстинктивными установками на приспособление к среде. Самоограничивание человека – эквивалентная замена инстинктивности, позволяющей животным выживать в зависимости от условий, в которых они пребывают. Что наш плен нами же и учреждается, тем яснее, чем более мы втянуты в историю. Homo historicus жаждет очутиться по ту сторону нормы, потому что она только кажется объективно необходимой, будучи в действительности сотворенной людьми. Однако освободиться от себя человек не в силах, пока он остается человеком. Обóжиться ему не дано. Он меняет стереотипы и ориентиры, но не отказывается от них вовсе. В этом плане история – великий эксперимент, показывающий нам всегдашнюю, постоянно возобновляемую конечность нашей умственной предприимчивости.
II. Приключения на краю ума
Считается, что человек далеко не в полной мере использует производственные мощности головного мозга, скомпонованного из многих миллиардов нервных клеток. Правда, никто толком не знает, на сколько процентов задействовано в норме наше церебральное хозяйство – на двадцать, на десять или всего-навсего на пять? Ответ на вопрос, почему простаивает высокотехнологичное оборудование, купленное дорогой ценой того длительного развития, которому подверглась рефлексирующая материя, кажется исследователям легкой добычей: потому что жизненная рутина не требует от нас, как правило, напряженной мыслительной работы. Теоретический ум винит то, что ему противоположно, – практику, вменяет ответственность врагу, формулируя тем самым свой вердикт машинально, без большой затраты сил и лишний раз подтверждая, что у мозга всегда есть непочатый резерв. Ведь то, что называется «жизненным миром», создано человеком и входит в состав социокультуры. В ней то и дело происходят возмущения, но в своих повседневных проявлениях она скорее инертна, чем неожиданна. Сказанное означает, что мозг, впадающий в автоматизм, скупо расходующий энергию, когда дело касается бытовых нужд, сам себе – в собственных творениях – ставит препоны. Нам постольку неизвестно точно, какая часть наших умственных способностей лежит втуне, поскольку мы не ведаем, как и зачем мы ограничиваем себя – свое сознание и свою поведенческую активность. Весьма вероятно, что человек испытывает нехватку свободы, лишь отзываясь на недостаточную загруженность интеллектуальной аппаратуры, которой он снабжен. Свобода тогда есть осознанная цель того существа, каковое теряется в догадках о том, почему ему приходится загонять себя во всяческие рамочные конструкции.
Я попытаюсь разобраться в том, что такое несвобода и как она преодолевается или не преодолевается, подходя в дальнейших главах книги к этой проблеме с разных сторон. Перед тем как заняться этим, нужно прояснить понятие границы – главное из тех, которыми мне предстоит оперировать. Оно – очевидность для эмпирически настроенного познания, но плохо поддается окончательному – отвлеченному от частных случаев – определению (последний предел всегда убегает от нас, утверждал Жак Деррида, тайно перенося на смысловой универсум космологическую модель, в соответствии с которой вселенная расширяется, то есть и имеет границу, и не имеет ее). Ссылка на личный опыт поможет мне избавиться от умозрительных затруднений.
В отличие от многих моих друзей и знакомых, пустившихся в эмиграцию из России, я покинул страну, оставаясь советским гражданином, что давало мне редкое в те времена (речь идет о первой половине 1980-х годов) право регулярно наведываться на родину. Почти каждое пересечение для многих неприступного рубежа сопровождалось каким-нибудь непредвиденным событием на таможне или у погранбудки, просящимся к изложению. Мне есть что рассказать, если бы я хотел засвидетельствовать истинность лотмановской теории повествования, связавшей сюжетообразование с пересечением границ. Мое намерение заключается, однако, в том, чтобы приблизиться поначалу не к эстетическому, а к философскому смыслу границы. Литературоцентричная отчизна не открыла мне его. Он представился мне более или менее различимым после одной из поездок в Израиль – на конференцию, неофициально приуроченную к шестидесятилетию Д. М. Сегала.
О самой конференции, состоявшейся весной 1998 года, читатель, если пожелает, получит сведения из изящной «виньетки» А. К. Жолковского «В тисках формы». Мне же важно сообщить, что я отправился в Израиль не только для того, чтобы чествовать Дмитрия Михайловича, но и с некоей миссией не научного и не юбилейного характера. Незадолго до того там побывал художник Игорь Захаров-Росс, попросивший меня привезти ему в Мюнхен картину, написанную в Тель-Авиве и почему-то в этом городе застрявшую. Чтобы ответить на мой вопрос: «Велика ли вещь?» – жена Игоря, Аллочка, всплеснула было руками, но потом свела их так, что в промежутке между ладонями не уместилось бы ничего крупнее портмоне. Наглядный образ рассеял поднимавшуюся со дна моей души тревогу, хотя я твердо знал, что Игорь никогда не был замечен в изготовлении миниатюр. Остенсивные определения не самые правдивые из всех (в этом Кант заблуждался), но они, бесспорно, самые успокоительные.