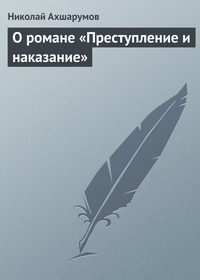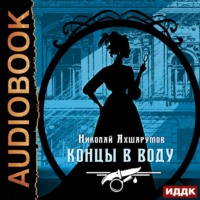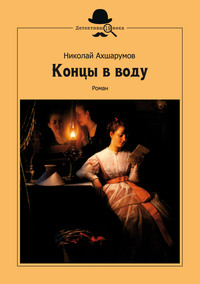Полная версия
Тайна угрюмого дома: старый русский детектив (сборник)
В три часа ночи я уехал из Р**. Дорогой вопрос о Фогель вертелся у меня на уме, и я не раз пожалел, что в ту пору, в Москве, не дал себе труда узнать имя моей интересной попутчицы. Чтобы нагнать упущенное, я решился было заехать на Дмитровку, рассчитывая, что с десяти до двух у меня хватит времени. Но поезд задержан был в К** так долго, что я едва поспел на Николаевскую дорогу.
VIНемедленно по возвращении в Петербург я посетил тетушку Софью Антоновну, у которой Ольга жила до замужества и после. Отдал ей письма из Р** и просидел у нее весь вечер. Нового я ей не мог сообщить почти ничего, кроме личных моих впечатлений. Даже попытки Павла Ивановича насчет развода, о которых она до сих пор молчала, оказались известны тетушке, должно быть, через сестру, хотя Ольга не подала и виду, что говорила об этом кому-нибудь, кроме меня… «Странное свойство женских секретов! – подумал я. – Все знают их порознь, но всякий должен воображать, что никому, кроме него, ничего не открыто!..»
Говоря о Бодягине, который вернулся вскоре после моего отъезда, тетушка сообщила мне по секрету, что он получил на днях большие деньги за какую-то концессию…
– Ездил по этому делу в Орел, – шепнула она, и вслед за тем прибавила громко, – ведь вот, везет же таким разбойникам.
– У него есть в Орловской родня? – спросил я кстати.
– Да, есть.
– Есть баронесса Фогель – кузина?
– Фогель?.. Да, кажется… Фогель?.. Постой-ка… Это Толбухиной Ирины Матвеевны дочь-то, замужняя?
– Да, – отвечал я, смутно припоминая слышанное от Ольги. – Только чуть ли она не в разводе?
– В разводе?.. Ну, нет, едва ли… Я что-то не слышала… Разве недавно?
– Есть, стало быть?
– Да, есть, а что?
– Так, ничего, я вспомнил… Мне говорили о ней в Москве.
– Есть, – повторила Софья Антоновна еще раз.
Одно из главных моих подозрений рухнуло, поколебав, естественно, все остальные, и я на другой же день сообщил Ольге известие, что ее Фогель не вымысел, прибавив, однако, совет не верить всему без разбора, что она о себе рассказывает, ибо иные вещи по справкам оказываются сомнительны. Так, например, о разводе ее здесь до сих пор ничего не знают.
В этот же день был у Бодягина, но не застал его дома. Мы свиделись дня через два, и он затащил меня обедать к Борелю.
– А! Черезов! Здравствуй, любезный друг! Давно ли? Откуда? Как поживаешь? – расспрашивал он. – Я слышал от В**, что ты воротился, да только тебя не видно было все это время… Постой-ка! Постой! Дай на тебя поглядеть… Фу, черт, как ты постарел!.. Что ты не женишься?.. Если имеешь в виду, то пора, а впрочем, оно, пожалуй, чем позже, тем лучше. Вот меня, братец, нелегкая угораздила, поторопился, да не знаю теперь, как и отделаться… Черт знает, что это такое!.. Ты слышал, конечно, с твоей кузиной?..
– Как же?
– Ах, да, я и забыл. Вы с нею ведь в переписке, и уж, конечно, она нажаловалась. Признайся: чай, расписала так, что просто и на глаза не показывайся? Она ведь мастерица расписывать, и слог у нее такой высокий.
Он, очевидно, не знал о моей поездке в Р**, и я тут же решил не говорить ему об этом без надобности… Я отвечал, что он ошибается, что Ольга писала о нем очень мало и далеко не враждебно.
– Врешь, брат! Не может быть!.. А впрочем, с вас станется! Вы ведь романтики, и у вас это все житейское прикрыто величественным молчанием или заставлено декорациями. Старая пассия, как водится между двоюродными, платония, родство душ – канитель возвышенных мыслей и идеальных чувств… Connu![2]
Все это у него было не скажу искренно, но естественно. В сердце глубоко скрытный, расчетливый и сухой человек, он сам, однако, не сознавал за собой этих качеств, считал себя добрым малым, способным на всякие увлечения, любил побалагурить с приятелями и был бы весьма удивлен, если бы кто-нибудь усомнился в его простодушии.
– А ты никогда не писал чувствительных писем? – спросил я.
– Писал, братец, как не писать!.. Я даже стихи сочинял. Но на меня это находит с ветру, как флюс или насморк, я не придаю этим вещам особенного значения.
– Но ты был влюблен в Ольгу?
– В Ольгу?.. Еще бы! Влюблен до зарезу, иначе я бы, конечно, не сделал такого дурачества. Между нами, mon cher[3], женитьба жестоко меня подрезала. В ту пору особенно, финансовый кризис и прочее, а тут еще эта обуза!.. Но я понимаю, тебя это мало интересует; хочешь узнать, как у нас было с нею… Скверно!.. Ошибся я, братец, в ней. При всей своей опытности, ошибся. Как это случилось, я даже и объяснить себе не могу. Помнишь, каким смотрела козырем? А потом!.. Но это у них часто бывает. Крепится, покуда в девках, изо всей мочи, чтобы как-нибудь дотянуть, а раз дотянула – кончено! Выдохлась вся, распустилась, просто хоть брось!.. Я, впрочем, ее уважаю; она человек хороший, да только существенного в ней нет. Ты не можешь себе представить, что это такое было! Пяти недель не прошло, как стала расклеиваться и дохнуть. То то, то другое у ней неладно; страшно было дотронуться, не знаешь, с какой стороны приступиться – ну, и щадишь. А она объясняет это холодностью. Эх, черт возьми! Да если бы я себе волю дал, так что от нее осталось бы?.. Тряпки!.. Ты извини, пожалуйста, я запросто.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Подонки (устар.) – осадок от какой-либо жидкости.
2
Само собой(фр.).
3
Мой дорогой(фр.).