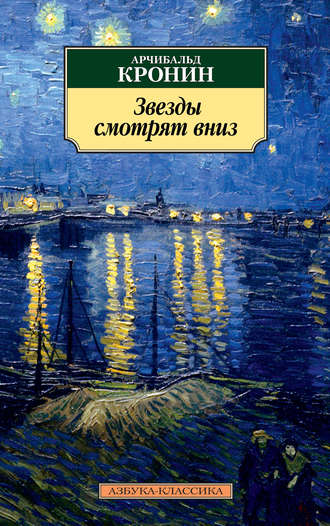
Полная версия
Звезды смотрят вниз
Уже пройдя половину Лам-стрит, он заметил человека, шагавшего по той же стороне улицы. Это был Ремедж, Джеймс Ремедж, владелец мясной лавки, вице-председатель попечительского совета их школы, кандидат в мэры Слискейла. Дэвид хотел было вежливо поклониться, но передумал. Впрочем, Ремедж прошел мимо, словно не узнавая его: он безучастно остановил на нем свой хмурый взгляд, как будто глядя сквозь него.
Дэвид покраснел, крепко сжал губы. «Вот мой враг», – подумал он. После мучительного дня этот последний щелчок задел его довольно глубоко. Но, входя в свой дом, он старался изгнать все из памяти и, не успев закрыть дверь, весело позвал:
– Дженни!
Дженни появилась в сногсшибательной розовой шелковой блузке, в которой он ее еще ни разу не видел; волосы ее были недавно вымыты и уложены в изящную прическу.
– Дженни! Ей-богу, ты похожа на королеву!
Она уклонилась от объятий и сказала, рисуясь, с милым кокетством:
– Не вздумайте измять мою новую блузку, мистер муж!
В последнее время она любила так его называть. Дэвида это ужасно коробило, он всегда останавливал ее. Всегда, но не сегодня… сегодня она может повторять это, пока самой не надоест. Обхватив рукой ее стройную талию, он повел ее на кухню, где в открытую дверь виднелся такой заманчивый огонь. Но Дженни запротестовала:
– Нет, Дэвид, не сюда. Я не хочу сидеть на кухне.
– Полно, Дженни, я привык сидеть на кухне. И здесь так уютно и тепло.
– Нет, не позволю этого, мистер муж! Ты помнишь наш уговор: не опускаться. Мы будем пользоваться гостиной. Сидеть на кухне – самая простонародная привычка.
Она прошла вперед в гостиную, где в камине тлел зеленый огонь, ничего хорошего не обещавший.
– Ты посиди тут, а я принесу чайник.
– Ну, Дженни… Какого черта…
Она утихомирила его ласковым жестом и выбежала из комнаты. Через пять минут она принесла все, что нужно для чаепития: сперва поднос, потом высокую никелированную сухарницу (недавнее приобретение), «задешево» купленную ввиду ожидаемых визитов, и, наконец, две японские бумажные салфеточки.
– Не ворчи, мистер муж! – остановила она протест пораженного Дэвида, раньше чем он успел что-нибудь сказать. Она налила ему чашку не особенно горячего чаю, любезно подала салфетку, пододвинула сухарницу с печеньем. Она была похожа на девочку, играющую с кукольным сервизом. Дэвид наконец не выдержал.
– Господи боже мой! – воскликнул он с шутливым отчаянием. – Что все это значит, Дженни, скажи на милость? Я голоден, черт возьми! Я хочу хорошего горячего чаю и яиц, или копченой рыбы, или парочку пирожков Сюзен «Готовься предстать перед Господом».
– Во-первых, не ругайся, Дэвид. Ты знаешь, что я к этому не привыкла, не так я воспитана. И не злись! Подожди и выслушай. Пить из чашек так красиво! А ко мне скоро начнут приходить гости. Нужно же нам подготовиться. Попробуй эти анисовые лепешки, я их купила у Мэрчисона.
Он с усилием подавил свое возмущение и молча удовлетворился «красотой» чаепития из чашечки, сырыми лепешками от Мэрчисона и плохо выпеченным хлебом из лавки, намазанным вареньем, тоже покупным.
На какую-нибудь долю секунды он невольно подумал об ужине, который, бывало, ставила перед ним мать, когда он приходил из шахты, где зарабатывал вдвое меньше, чем теперь: домашняя булка с хрустящей корочкой, от которой можно было отрезать, сколько хотелось, целый горшок масла, сыр и черничное варенье домашнего приготовления. Ни покупного варенья, ни покупного печенья в доме Марты никогда не бывало. Но это мимолетное видение было вероломством по отношению к Дженни. И Дэвиду стало совестно. Он нежно улыбнулся жене:
– Употребляя твое собственное неподражаемое выражение, ты «девочка первый сорт», Дженни.
– О, в самом деле? Правда? Я вижу, ты исправляешься, мистер муж. Ну, рассказывай, что сегодня было в школе?
– Да ничего особенного, дорогая.
– Всегда один и тот же ответ!
– Ну, если хочешь…
– Да?
– Нет, ничего, дорогая.
Он медленно набивал трубку. Как рассказать ей скучную историю борьбы и неудач? Другим он, может быть, и рассказал бы, но Дженни… Ведь Дженни ожидала рассказа о блестящих успехах, о лестных похвалах заведующего, о каком-нибудь поразительном маневре, благодаря которому Дэвид сразу выдвинется. Ему не хотелось ее огорчать. А лгать он не умел…
Последовало короткое молчание. Затем Дженни беспечно перешла к другой опасной теме:
– Скажи, как ты решил насчет Артура Барраса?
– Мне совсем не хочется браться за это дело…
– Да что ты! Ведь это такая удача, – возразила Дженни. – Подумать только, что сам мистер Баррас тебя приглашает!
Дэвид сказал отрывисто:
– Я и так уже слишком много имел дела с Баррасом. Не люблю его. Я отчасти жалею, что тогда написал ему. Мне тяжело думать, что я ему обязан получением места.
– Глупости, Дэвид! Баррас такой влиятельный человек. По-моему, великолепно, что он тобой интересуется и пригласил тебя в репетиторы к своему сыну.
– А я думаю, что тут вовсе не интерес ко мне… У меня нет времени для таких людей, как он. С его стороны это попросту желание доказать, что он благодетель.
– А кому же он должен это доказывать?
– Себе самому, – отрезал Дэвид сердито.
Дженни решительно не понимала, что он хотел этим сказать. Дело было в том, что Баррас, встретив Дэвида в прошлую субботу на Каупен-стрит, остановил его и с покровительственным видом, с холодным любопытством стал расспрашивать, а затем предложил ему три раза в неделю, по вечерам, заниматься с Артуром по математике. Артур в математике был слаб и нуждался в репетиторе, чтобы подготовиться к экзаменам для получения аттестата зрелости.
Дженни тряхнула головой:
– Мне думается, ты сам не понимаешь, что говоришь.
С минуту казалось, что она собирается добавить еще что-то. Но она не сказала ничего и, сердито, рывком собрав посуду, унесла ее из комнаты.
Тишина наступила в маленькой комнате с новой мебелью и камином, в котором горели сырые дрова. Через некоторое время Дэвид встал, разложил на столе книги, помешал кочергой в камине. Он заставил себя выбросить из головы вопрос о Баррасе и сел за работу.
Он не выполнял намеченной себе программы, и это его расстраивало. Никак не удавалось заниматься столько, сколько он рассчитывал. Преподавание оказалось делом трудным, гораздо труднее, чем он воображал. Он часто приходил домой сильно утомленный. Вот и сегодня тоже. И как-то неожиданно то одно, то другое отвлекало от занятий. Он стиснул зубы, подпер голову обеими руками и сосредоточил все внимание на учебнике. Он должен, должен работать ради проклятой степени бакалавра! Это единственный способ обеспечить Дженни и себя.
С полчаса работалось отлично, никто не мешал. Затем тихонько вошла Дженни и уселась на ручке его кресла. Она раскаивалась в своей давешней раздражительности и вкрадчиво приласкалась к нему, как игривый котенок.
– Дэвид, милый, – она обняла рукой его плечи, – мне совестно, что я такая злющая, право, совестно! Но мне было так скучно целый день, и я так ждала вечера, так ждала!
Он улыбнулся и приложился щекой к ее круглой маленькой груди, по-прежнему упорно не отрывая глаз от книги:
– Ты вовсе не злющая, и я верю, что тебе было скучно.
Она заискивающе погладила его по затылку:
– Да, правда, мне было очень скучно, Дэвид. Я за весь день не разговаривала ни с одной живой душой, кроме старого Мэрчисона и женщины в магазине, где я приценивалась к шелку… ну и двух-трех человек, проходивших мимо дома. Я… я надеялась, что мы с тобой сходим куда-нибудь сегодня вечером и повеселимся.
– Но мне нужно заниматься, Дженни. Ты это понимаешь не хуже меня. – Дэвид по-прежнему не поднимал глаз от книги.
– О!.. Ты же не обязан вечно сидеть, уткнув нос в эти дурацкие книги, Дэвид. Сегодня можно сделать передышку… поработаешь в другой раз.
– Нет, Дженни! Честное слово, нельзя. Ты знаешь, как это важно.
– Нет, ты мог бы, если бы захотел.
Пораженный, недоумевающий, он поднял наконец глаза и с минуту всматривался в лицо Дженни:
– Да куда тебе вздумалось идти, скажи ради бога? На улице холодно и моросит дождь. Самое приятное – сидеть дома.
Но у Дженни ответ был наготове, все заранее обдумано. Она стремительно принялась излагать свой план:
– Мы можем поехать в Тайнкасл поездом в шесть десять. Сегодня в Эддон-холле общедоступный концерт, это очень интересно. Я в газете прочла, что там будут сегодня некоторые артисты из Уитли-Бэй. Они всегда зимой гастролируют. Будет, например, Колин Лавдей, у него такой приятный тенор. Билет стоит всего один шиллинг три пенса, так что о расходе говорить не приходится. Поедем, Дэвид, ну пожалуйста! Мы славно повеселимся. У меня такое скверное настроение, мне необходимо немножко встряхнуться. Не будь же таким тюленем.
Наступило недолгое молчание. Дэвиду не хотелось, чтобы его считали «тюленем», но он был утомлен, сознавал, что необходимо работать. Вечер, как он сказал Дженни, был сырой и неприветливый, а концерт его не соблазнял. Вдруг его осенила мысль, замечательная мысль. Глаза его заблестели:
– Послушай-ка, Дженни! А что, если мы сделаем так: книги я на сегодня отложу, раз ты советуешь, сбегаю и приведу Сэма и Гюи. Мы подкинем еще дров в камин, сочиним горячий ужин и будем веселиться вовсю. Ты толковала об артистах, но они и в подметки не годятся нашему Сэмми. Ничего подобного ты никогда не слыхала, он тебя все время будет смешить до колик.
Да, честное слово, блестящая идея! Дэвида мучило отчуждение, возникшее между ним и его родными, хотелось прежней близости с братьями, – и вот представлялся отличный случай. Его лицо просияло, но лицо Дженни омрачилось.
– Нет, – сказала она холодно. – Мне это совсем не нравится. Твои родные скверно отнеслись ко мне, а я не из тех, кто позволяет плевать себе в лицо.
Новая пауза, Дэвид крепко сжал губы. Он понимал, что Дженни не права и ее рассуждения нелепы. Нехорошо с ее стороны в такой вечер заставлять его ехать в Тайнкасл. Он не поедет. Но вдруг он увидел, что ее глаза наполняются слезами. Это решило вопрос. Не мог же он доводить ее до слез.
Он со вздохом встал и захлопнул книгу:
– Ну хорошо, Дженни, поедем на концерт, раз тебе так хочется.
Дженни слегка вскрикнула от удовольствия, захлопала в ладоши, радостно поцеловала его:
– Какой ты милый, Дэвид! Право, милый! Теперь подожди минутку, я сбегаю наверх за шляпой. Я скоро, у нас еще много времени до отхода поезда.
Пока она наверху надевала шляпку, Дэвид прошел на кухню и отрезал себе хлеба и сыру. Ел медленно, уставившись на огонь. Он подумал с кривой усмешкой, что Дженни, вероятно, уже давно замыслила потащить его на этот концерт.
Только что он доел хлеб, как послышался стук в дверь с черного хода. Удивленный, он пошел отпирать.
– А, Сэмми! – воскликнул он радостно. – Ах ты, старый шалопай!
Сэмми с задорной усмешкой, никогда не покидавшей его бледного, но дышавшего здоровьем лица, вошел в кухню.
– Мы с Энни шли мимо, – объяснил он с некоторым смущением, продолжая улыбаться. – И я решил заглянуть к тебе.
– Молодчина, Сэмми. Но где же Энни?
Сэм движением головы указал в темноту за дверью. Этикет был строго соблюден: Энни ждала его на улице. Энни знала свое место. Она не была уверена, что она здесь желанный гость. Дэвид так и видел перед собой Энни Мэйсер, которая с ясным спокойствием прохаживается перед домом в ожидании, когда ее сочтут достойной приглашения. Он крикнул торопливо:
– Позови ее сюда сейчас же, идиот ты этакий! Скорее! Приведи ее сию же минуту!
Улыбка Сэмми стала шире.
В это время появилась Дженни, совсем одетая к выходу. Сэмми в нерешительности остановился на пути к дверям, глядя на нее. Дженни подошла к нему с самой светской любезностью.
– Какой приятный сюрприз, – сказала она, вежливо улыбаясь. – Вы ведь у нас редкий гость. Ужасно неудобно, что мы с Дэвидом как раз собрались уходить.
– Но Сэмми пришел к нам в гости, Дженни, – вмешался Дэвид. – И с ним Энни. Она на улице.
Дженни подняла брови, выдержала надлежащую паузу, приветливо улыбаясь Сэму:
– Ах, какая жалость! Как досадно, право. Надо же было вам попасть к нам как раз тогда, когда мы уходим на концерт. Мы условились встретиться со знакомыми в Тайнкасле и никак не можем их обидеть. Надеюсь, вы заглянете к нам в другой раз?..
Улыбка упорно не сходила с лица Сэма:
– Ничего, ничего. Мы с Энни не особенно занятые люди. Можем прийти в другой раз.
– Никуда ты не уйдешь, Сэмми, – вскипел Дэвид. – Зови сюда Энни. И оба вы посидите у нас и напьетесь чаю.
Дженни устремила на часы взгляд, полный отчаяния.
– Нет, нет, брат. – Сэмми уже двинулся к двери. – Ни за что на свете я не хочу мешать тебе и миссис. Мы с Энни погуляем по проспекту, вот и все. Покойной ночи вам обоим!
Улыбка Сэма продержалась до конца. Но Дэвид, не обманываясь этим, видел, что Сэмми глубоко обижен. Теперь он, конечно, выйдет к Энни и буркнет:
– Пойдем, девочка, мы неподходящая компания для таких, как они. С той поры, как наш Дэвид стал учителем, он, кажется, уж больно много о себе воображает.
Дэвид стоял и мигал глазами, в нем боролись желание догнать Сэма и мысль, что он обещал Дженни повести ее на концерт. Но Сэмми уже ушел.
Дженни и Дэвид поспели на тайнкаслский поезд, который был битком набит, шел медленно и останавливался на каждой станции. Приехав, отправились в Элдон-холл. За билеты пришлось уплатить по два шиллинга, так как все дешевые места уже были раскуплены.
Они три часа просидели в зрительном зале. Дженни была в восторге, хлопала и кричала «бис», как и все остальные. Дэвиду же все казалось отвратительным, хотя он изо всех сил уговаривал себя, что ему концерт нравится. Исполнители были бездарные. «О, это артисты первого сорта», – непрестанно шептала ему с энтузиазмом Дженни. Но они были не первого, а четвертого сорта, остатки каких-то ярмарочных трупп: комик, выезжавший главным образом на остротах относительно своей тещи, и Колин Лавдей, пленявший богатыми вибрациями в голосе и рукой, чувствительно прижатой к сердцу.
Дэвиду вспомнилось выступление маленькой Салли в гостиной на Скоттсвуд-роуд, бесконечно более талантливое. Он подумал о книгах, ожидавших его дома, о Сэмми и Энни Мэйсер, которые брели рука об руку по проспекту…
Когда они по окончании концерта выходили из зала, Дженни прижалась к нему:
– У нас есть еще целый час до последнего поезда, Дэвид. Нам лучше всего ехать последним, он идет так быстро – до Слискейла без остановок. Давай зайдем выпить чего-нибудь к Перси. Джо всегда водил меня туда. Возьмем только портвейну или чего-нибудь в таком роде… не ждать же нам на вокзале.
В ресторане Перси они выпили портвейну. Дженни доставило большое удовольствие побывать здесь опять, она узнавала знакомые лица, болтала с лакеем, которого, вспомнив шутку красноносого комика, называла Чольс.
– Он уморительный, правда? – говорила она, посмеиваясь.
От выпитого портвейна все представилось Дэвиду в несколько ином виде, в смягченных очертаниях, в более розовом свете. Он через стол улыбался Дженни.
– Ах ты, легкомысленный чертенок, – сказал он, – какую власть ты имеешь над бедным человеком! Придется, видно, все-таки согласиться обучать молодого Барраса.
– Вот это правильно, милый! – сразу же горячо одобрила Дженни. Она ласкала его глазами, прижималась к нему под столом коленом и, осмелев, весело приказала Чольсу подать ей еще порцию портвейна.
Потом им пришлось бегом мчаться на вокзал. Скорее, скорее, чтобы не опоздать! Они уже почти на ходу вскочили в пустой вагон для курящих.
– О боже! О боже! – хохотала Дженни, совсем запыхавшись. – Вот умора! Правда, Дэвид, миленький? – Она помолчала, отдышалась. Заметив, что они одни в вагоне, вспомнила, что поезд до самого Слискейла нигде не останавливается, а значит, еще по меньшей мере полчаса впереди… и что-то екнуло у нее внутри. Она всегда любила выбирать необычные места… уже и тогда, когда у нее был роман с Джо. И она вдруг прильнула к Дэвиду:
– Ты так добр ко мне, Дэвид, как мне тебя благодарить… Опусти шторы, Дэвид… станет уютнее.
Дэвид посмотрел пристально и как-то неуверенно на лежавшую в его объятиях Дженни. Глаза ее сомкнулись и под веками казались выпуклыми, бледные губы были влажны и приоткрыты в слабой улыбке, дыхание сильно благоухало портвейном; тело у нее было мягкое и горячее.
– Да ну же, скорее, – бормотала она. – Опусти шторы. Все шторы.
– Дженни, не надо… погоди, Дженни…
В поезде немного трясло, покачивало вверх и вниз. Дэвид встал и опустил все шторы.
– Теперь чудесно, Дэвид.
………………………………………………………………………
Потом она лежала подле него; она уснула и тихо похрапывала во сне. А Дэвид смотрел в одну точку со странным выражением на застывшем лице. В вагоне застарелый запах табака смешивался с запахом портвейна и паровозного дыма. На полу – брошенные кем-то апельсинные корки. За окнами чернел густой мрак. Ветер выл и барабанил в стекла крупными каплями дождя. Поезд с грохотом несся вперед.
XVIII
В начале апреля Дэвид, вот уже почти три месяца дававший уроки Артуру Баррасу, получил записку от отца. Записку эту принес однажды утром в школу на Бетель-стрит Гарри Кинч, мальчуган с Террас, брат той самой маленькой Элис, которая семь лет тому назад умерла от воспаления легких. «Дорогой Дэвид, не хочешь ли в субботу поехать в Уонсбек удить. Твой папа», – было неуклюже нацарапано химическим карандашом на внутренней стороне старого конверта.
Дэвид был глубоко тронут. Значит, отец опять хочет взять его с собой удить на Уонсбек, как брал тогда, когда он был еще малышом! При этой мысли Дэвид почувствовал себя счастливым. Роберт не работал в шахте десять дней, заболев туберкулезным плевритом (сам он равнодушно уверял, что это «обыкновенное воспаление»), но уже поправился и начал выходить из дому. Суббота была его последним свободным днем, и он хотел провести его в обществе Дэвида. Эта записка была как бы предложением мира, шедшим из глубины отцовского сердца.
Дэвид стоял у доски в жужжавшем классе, а в памяти его быстро проносились последние месяцы. Он пошел в «Холм» против воли, отчасти по настоянию Дженни, а больше всего потому, что им нужны были деньги. Но это сильно огорчило его отца.
Разумеется, ему и самому представлялось невероятным, что он теперь коротко знаком с Баррасами, о которых он всегда думал как о людях, очень далеких от его собственной жизни. Вот, например, тетушка Кэрри. Она вначале присматривалась к нему с недоверчивым любопытством и беспокойством и склонна была отнестись к нему так же, как к людям, приходившим в комнаты в грязных сапогах, или к счету мясника Ремеджа, когда он, по ее мнению, брал с нее лишнее за филе. Довольно долго в ее близоруких глазах читалось тревожное недоверие.
Но мало-помалу тетушкины глаза утратили это выражение. В конце концов она стала положительно неравнодушна к Дэвиду и всякий раз к концу урока, часам к девяти, посылала в старую классную комнату горячее молоко и печенье.
Потом молоко в классную стала, к его удивлению, приносить Хильда. Вначале она смотрела на него даже не как на субъекта, который явился в дом в грязных сапогах, а просто как на грязь с этих самых сапог. Дэвид не обращал внимания на ее тон: он был достаточно сообразителен, чтобы увидеть в нем признак душевного разлада. Эта девушка интересовала его. Ей было уже двадцать четыре года. Неприветливость и мрачная некрасивость ее лица с годами стали еще заметнее. «Хильда, – говорил себе Дэвид, – не такова, как большинство некрасивых женщин. Те упорно себя обманывают, прихорашиваются, наряжаются, утешают себя перед зеркалом: „Голубое мне, несомненно, к лицу“, или: „У меня, право, очень красивый профиль“, или: „Ну разве не очаровательная у меня головка, если причесаться на прямой пробор?“ – и так тешатся иллюзиями до самой смерти. Хильда же сразу решила, что некрасива, и еще подчеркивает это своей угрюмостью». Помимо этого, Дэвид чувствовал, что Хильда переживает душевную борьбу: может быть, сильная воля, унаследованная от отца, боролась в ней с материнской пассивностью. Дэвиду всегда чудилось в Хильде такое насильственное сочетание этих двух черт характера. Казалось, зачатая против воли, она еще зародышем восставала против своей судьбы и родилась на свет в состоянии вопиющего внутреннего разлада. Хильда была несчастна. Она постепенно, не сознавая этого, выдавала свою тайну Дэвиду. Ей сильно недоставало Грэйс, которую отправили кончать школу в Хэррогейт. Несмотря на ее обычные замечания вроде: «Никогда ее ничему не научат, эту маленькую пустомелю» или (при чтении писем Грэйс): «Да она делает ошибки в самых простых словах!» – Дэвид угадал, что Хильда обожает Грэйс. Эта девушка представляла собой какую-то своеобразную разновидность феминистки, воюющей тайно, про себя. 12 марта все газеты были полны описания разгрома, учиненного суфражистками в Вест-Энде. На всех главных улицах были выбиты окна в домах, и сотни суфражисток арестованы, в том числе и миссис Сильвия Панкхерст. Хильда вся горела от возбуждения. В этот вечер она была вне себя и затеяла горячий спор. Она говорила, что хочет быть участницей этого движения, что-то делать, ринуться в кипучий водоворот жизни, работать изо всех сил для освобождения женщин от губительного гнета. Сверкая глазами, она привела в пример женщин Армении и торговлю белыми рабынями. Она была великолепна в своем гневном презрении. Мужчины? Ну конечно, мужчин она ненавидит! Ненавидит и презирает. Она приводила доводы, – эту песню она знала наизусть. Это тоже был симптом внутреннего разлада, психоз некрасивой женщины.
Несмотря на то что Хильда никогда не говорила этого прямо, было ясно, что ее озлобление против мужчин коренилось в ее отношениях с отцом. Отец был мужчина, олицетворение мужского начала. Хладнокровие, с которым он подавлял все ее порывы и стремления, разжигало в ней злобу, заставляло ее еще глубже, еще острее ощущать гнет. Она хотела уйти из «Холма», из Слискейла, жить своим трудом, где угодно и чем угодно, только бы среди женщин. Она хотела делать что-нибудь. Но все эти исступленно-страстные желания разбивались о спокойное безразличие отца. Он смеялся над ней, он одним рассеянным словом заставлял ее чувствовать себя какой-то дурочкой. Она дала себе клятву, что уйдет из дому, будет бороться. Но никуда не уходила, а борьба шла лишь в ней самой. Хильда ждала… Чего?
Хильда внушала Дэвиду одно представление о Баррасе, Артур, разумеется, – другое. В «Холме» Дэвид никогда не встречался с Баррасом, и тот оставался для него далеким и недоступным. Но Артур много говорил об отце, для него не было большего удовольствия, как говорить об отце. Покончив с квадратными уравнениями, он начинал… Предлогом для этого служило что угодно. И в то время как в словах Хильды об отце сквозила ненависть, Артур говорил о нем с настоящим восторгом.
Дэвид очень полюбил Артура, но в его привязанности скрывалось то же чувство жалости, которое проснулось еще тогда, когда он впервые увидал Артура на заводском дворе, на высоком сиденье кабриолета. Артур был так серьезен, так трогательно серьезен, но так слаб и нерешителен. Даже выбирая карандаш для рисования, он долго колебался и раздумывал, какой взять – Н или НВ. Быстрое решение было для него настоящей радостью. Он все принимал близко к сердцу, был чрезмерно впечатлителен. Дэвид часто пытался шуткой победить застенчивость Артура, но все было напрасно: Артур не обладал ни малейшим чувством юмора.
Познакомился Дэвид и с матерью своего ученика. Как-то вечером тетушка Кэрри принесла горячее молоко в классную, всем своим видом давая понять Дэвиду, что ему на этот раз оказывается еще большая милость, чем обычно.
Она сказала с важностью:
– Моя сестра, миссис Баррас, хочет вас видеть.
Гарриэт приняла его лежа в постели. Она объяснила, что хочет поговорить об Артуре, то есть просто узнать мнение Дэвида о сыне. Артур очень ее тревожит, она чувствует, что на ней лежит большая ответственность.
– Да, большая ответственность, – повторила она и попросила Дэвида передать ей, если его это не затруднит, одеколон с ночного столика. – Он вот там, у самого вашего локтя. Одеколоном я немного успокаиваю головную боль, когда Кэролайн занята и не может расчесывать мне волосы… Да, – продолжала она, – для отца было бы таким разочарованием, если бы из Артура ничего не вышло.
Она выразила надежду, что мистер Фенвик, о котором Кэролайн так лестно отзывалась, постарается оказать доброе влияние на Артура, подготовит его к жизни. И тут же, без всякого перехода, осведомилась, верит ли Дэвид в лечение гипнозом. Ей недавно пришло в голову, что надо бы попробовать на себе такой способ лечения, но затруднение в том, что для этого кровать должна быть обращена на север, а в ее комнате этому мешает расположение окна и газовой печки. Обойтись же без печки она, конечно, не может. Ни в коем случае! Так как мистер Фенвик знаком с математикой, то пусть он скажет по совести, считает ли он, что гипноз подействует так же, если кровать обращена на северо-запад? Поставить ее таким образом будет не особенно трудно – нужно только передвинуть комод к другой стене.














