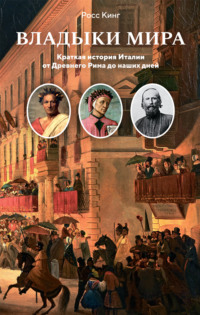Полная версия
Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря»
Характер и намерения французов проявились со всей очевидностью уже несколько недель спустя, в Мордано, который лежит в сорока километрах к юго-востоку от Болоньи. На протяжении предшествовавшего столетия все военные кампании в Италии были относительно бескровными, тактически выверенными и локальными – больше устрашения и помпезности, чем жестокости и героизма, – и напоминали шахматные партии, в которых одному наемнику удавалось перехитрить другого и тот, признав превосходство соперника, мирно удалялся с поля боя. Так это было в Загонаре, где в 1424 году флорентинцы потерпели знаменитое поражение: всех жертв набралось три бойца, которые упали с лошадей и утонули в грязи. В 1427 году венецианцы одолели восьмитысячное миланское войско в битве при Макало; убитых не было. Как заметил не без сарказма один очевидец из Флоренции, «правило у наших итальянских воинов, похоже, такое: вы грабите там, мы грабим тут; нет никакой необходимости подходить близко друг к другу».[38]

Неизвестный художник. Портрет Карла VIII Французского. Конец XV в. Дерево, масло.
Командиры французской армии, вторгшейся в Италию в 1494 году, придерживались иных взглядов на методы ведения войны. В итальянский порт Специя им доставили морем осадные орудия. Пушки их были отлиты из бронзы, в отличие от итальянских, представлявших собой медные трубки, обшитые деревом или шкурами. Французские пушки могли стрелять литыми ядрами размером с человеческую голову, а итальянские заряжали каменными кругляшками, которые вытачивали каменщики (даже те пушки, которые проектировал Леонардо, должны были «кидать мелкие камни»).[39] Французских артиллеристов обучали в специальных школах, орудия их можно было навести с убийственной точностью. Итальянские пушки перетаскивали плужные волы, телеги с французскими пушками тянули быстроногие лошади. Французскую артиллерию можно было быстро переместить на нужную позицию и тут же открыть огонь – и она наносила сокрушительные удары как по городским стенам, так и по шеренгам бойцов на поле боя. В Италии внезапно появились грозные орудия, существовавшие до того только в воображении Леонардо.
Чтобы овладеть югом Италии, необходимо было взять под контроль ряд стратегически важных крепостей, которые блокировали проход к тосканской части Апеннин и в центр Италии. Одной из таких крепостей был Мордано. Он принадлежал Катерине Сфорца, графине Форли, незаконной дочери брата Лодовико – Галеаццо Марии и союзнице Неаполя, а не Лодовико и французов (хотя в ней и текла кровь Сфорца). Когда в октябре 1494 года под стенами Мордано появились войска Карла VIII, и воины, и гражданские рассчитывали на прочность крепостных стен и привычную им нерешительность противника. Однако, после того как на предложение сдаться они ответили отказом, французы тут же проломили стены ядрами.
Штурм в Италии иногда превращался в зверство, если солдаты обнаруживали внутри женщин и беззащитное мирное население, а не бойцов, способных держать в руках оружие. Так, зверским стало взятие Вольтерры военачальником Федериго да Монтефельтро по поручению флорентинцев в 1472 году. «Весь день город грабили и разрушали, – писал впоследствии Макиавелли. – Не пощадили ни женщин, ни святынь».[40] Штурм Мордано, после которого в живых не осталось ни одного обитателя крепости, ни военного, ни гражданского, оказался еще кровавее. Новости об этой резне, вошедшей в историю как «побоище в Мордано», быстро распространились по всей Италии. Вскоре французы перешли к боевым действиям и грабежам даже на территории своих так называемых союзников. Французские захватчики, по словам флорентийского летописца, были «не люди, а звери».[41]
* * *До того как отправиться из герцогства Миланского на театр военных действий, Карл нанес краткий визит вежливости Джангалеаццо Сфорца, законному правителю герцогства, который вел бесцельно-праздную жизнь в замке в Павии. Они были двоюродными братьями, и между ними нашлось много общего, включая склонность к разврату. Некоторые современники винили Лодовико в интеллектуальной и нравственной ущербности племянника. По словам одного венецианского писателя, Лодовико сделал все возможное, чтобы «из мальчика не вышло ничего путного», – намеренно пренебрегал его образованием как в области военного дела, так и в области управления государством. Более того, он специально нанимал людей, которые «портили и развращали его детскую душу», дабы юный герцог привык ко «всевозможным наслаждениям и праздности».[42] Трудно сказать, справедливы ли эти обвинения, но юный Джангалеаццо, похоже, и не нуждался в особом потворстве. Усладам он предавался с таким усердием, что это сказалось на его здоровье, и к моменту визита французского короля он был уже серьезно болен. Ровно через день после побоища в Мордано он скончался, дожив лишь до двадцати пяти лет. Ходил слух, что смерть его наступила от «безудержных сношений», но куда назойливее были сплетни о том, что его отравил Лодовико.[43]
Как бы то ни было, с точки зрения Лодовико, Джангалеаццо покинул сей мир в самый подходящий момент. Два дня спустя, полностью проигнорировав наследственные притязания пятилетнего сына Джангалеаццо Франческо, напирая на грозящие герцогству опасности и потребность в сильном правителе в столь смутные времена, он возложил на себя титул герцога Миланского и забрал гербовую печать. Однако в момент кончины одного из соперников Лодовико на сцену вышел другой. Растущие подозрения Моро касательно его союзников-французов усилились многократно после появления тридцатидвухлетнего кузена и зятя Карла – Людовика, герцога Орлеанского. Будучи, как и Лодовико, правнуком первого герцога Миланского, безумного и жестокого тирана, скончавшегося в 1402 году, Людовик горел желанием утвердиться в собственном праве правителя герцогства. По мнению некоторых очевидцев, красивый и беспутный Людовик вряд ли мог тягаться с коварным Лодовико. «Голова у него маленькая, много мозгов там не поместится, – писал флорентийский посланник в Милане, а далее предрекал: – Лодовико его скоро одолеет».[44] Тем не менее у Лодовико были все основания опасаться своего французского тезки, врага, который – будучи номинально его союзником – на деле представлял бо́льшую опасность, чем король Неаполя.
Альфонсо тем временем послал свою армию к северу, на битву с королем Франции. Во главе армии стоял миланский аристократ Джанджакомо Тривульцио, личный враг Лодовико, которого тот ранее изгнал из своего герцогства. Когда войско Тривульцио подошло к Ферраре в двухстах километрах от Милана, Лодовико, поняв, что пришло время перековать орала на мечи, конфисковал у Леонардо семьдесят пять тонн бронзы. Металл он переправил своему тестю, герцогу Феррарскому, под наблюдением которого некий мастер Дзанин превратил бронзу в три орудия, в том числе «одно во французском стиле».[45] Феррара была одним из двух городов Италии, где умели отливать столь грозные пушки. В феррарском Старом замке имелся – помимо тюрьмы, пыточной камеры и особой комнаты для обезглавливания узников – литейный двор для изготовления орудий.[46] В это мрачное место и отправили бронзу Леонардо.
* * *Для Леонардо сложившаяся ситуация представляла собой грустную иронию судьбы. Некогда он приехал в Милан, мечтая создавать военные механизмы. Его записные книжки первых миланских лет полны чертежами изобретений, назначение которых – уничтожать врага. Он обещал, что его боевые машины будут «необычайного характера», он во всех подробностях вычертил пушку на поворотной установке с точным наведением, многоствольный пулемет, бронированный танк с орудиями и колесницу с шипами на колесах, оснащенную вращающимися лезвиями на высоте человеческих голов. Лодовико это оружие массового поражения не заинтересовало. Войны, как уже говорилось, протекали в Италии относительно мирно, а кроме того, вот уже несколько десятилетий основные итальянские правители избегали крупных конфликтов, так что поводов поощрять Леонардо у герцога не было. Когда же у Лодовико внезапно возникла потребность в тяжелой артиллерии, заказ отдали литейщикам из Феррары, а Леонардо – такая вот незадача – лишился своих семидесяти пяти тонн бронзы.
Видя, что возможность отлить памятник от него ускользнула, Леонардо сочинил отчаянное, злобное письмо Лодовико. Вероятно, оно так никогда и не было отправлено, поскольку единственная уцелевшая страница разорвана пополам – возможно, самим Леонардо, на трезвую голову. Но не исключено, что это лишь черновик письма, которое Леонардо все-таки отправил Моро. В любом случае его сердитое и довольно непоследовательное брюзжание сохранилось только в разрозненных фрагментах. «И если я получу еще какой заказ от кого-то из…» – так оно начинается и сразу обрывается. Вот еще несколько обрывков из этого перечня:
«…вознаграждение за мои услуги. Поскольку я не позволю…»,
«…порученное мне, поскольку тем временем…»,
«…с которыми они, возможно, справятся лучше, чем я…»,
«…но менять свое искусство я не собираюсь, и…».
Дальше Леонардо сообщает, что провел всю жизнь на службе у Лодовико, что всегда был готов ему повиноваться, что понимает – сейчас мысли властителя заняты другим. «О коне говорить не буду ничего, поскольку знаю, какие сейчас времена», – примирительно пишет он, однако тут же начинает перечислять все обиды, нанесенные ему в связи с этим последним заказом: жалованье не выплачено за два года, помощникам-мастерам он вынужден был платить из собственного кармана; он упоминает «великие произведения», которые надеялся создать, а вместо этого ему приходится тяжко трудиться, чтобы «заработать на пропитание». Заканчивается письмо так: «Я обратился к вашей светлости с единственной просьбой…»
С какой именно просьбой Леонардо обратился к Лодовико, неизвестно. Одна из оборванных строк – «А помните Вы о росписи комнат», – видимо, призвана напомнить о том, что Леонардо было поручено расписать некие помещения либо в Миланском замке Лодовико, либо в загородной резиденции герцога в Виджевано. Для последней, судя по всему, Леонардо планировал сцены из римской истории, включавшие портреты античных философов.[47]
Впрочем, у Лодовико, как бы он ни был отягощен иными заботами, имелся один заказ для придворного живописца. Французское нашествие лишило Леонардо возможности отлить бронзового коня, однако подарило ему шанс создать другое прославившее его произведение.
Глава 2
Портрет художника в зрелые годы
Бронзовая статуя стала далеко не первым заказом, который Леонардо по тем или иным причинам не выполнил. Он был из тех, кто обещает слишком много и возносится в своих мечтах слишком высоко. Однако к тому моменту список его творческих достижений, пусть и весьма внушительный, был явно недостаточным для такого талантливого человека. Да, в Милане он пользовался заслуженным уважением, однако дожил уже до сорока лет, не создав ни единого шедевра, в котором полностью проявились бы все его гениальные задатки. В его послужном списке – как во Флоренции, так и в Милане – значился целый ряд крупных работ, которые остались незавершенными: заказчики выражали недовольство, а один раз даже дошло до суда. Законченных работ на счету у Леонардо было не так уж много: помимо храмовой росписи «Благовещение» в одном из монастырей под Флоренцией, он написал несколько изображений Мадонны с Младенцем для частных заказчиков, несколько портретов, тоже для частных лиц, – в том числе по заказу Лодовико Сфорца портрет его любовницы Чечилии Галлерани. Кроме того, он, видимо, создал некую картину – его первый биограф называет ее «одним из самых прекрасных и редких произведений живописи», – которую Лодовико отправил в качестве свадебного подарка Максимилиану, императору Священной Римской империи.[48]
Все эти работы, в особенности портреты, были новаторскими по стилю и изысканными по исполнению. Один придворный поэт написал стихотворение, где восславил «гений и мастерство», с которыми Леонардо запечатлел «на все времена» образ Чечилии. Сама Чечилия, явно довольная работой, назвала Леонардо «мастером, которому, по моему мнению, нет равных».[49] Кроме того, Леонардо создал образ некоего святого, вышедший настолько прекрасным и правдоподобным, что владелец «в него влюбился» (так впоследствии заявлял Леонардо) и даже просил художника убрать с картины священные атрибуты, чтобы можно было «целовать ее без задней мысли».[50]
Однако работы эти хранились в частных домах, где видеть их могли только владыки и придворные, а картина, подаренная Максимилиану, судя по всему, находилась в далеком Инсбруке. Пока Леонардо не довелось создать ничего, чтобы заслужить широкую и громкую славу, которая выпала на долю легендарных, всеми любимых художников прошлого: ничего, что можно было бы поместить в соборе или на площади, чтобы каждый мог увидеть собственными глазами, – вроде статуи Гаттамелаты в Падуе, изваянной Донателло, фресок Джотто в Ассизи или купола Филиппо Брунеллески во Флоренции. Бронзовый конь наверняка вызвал бы восторг и изумление, но возможность оказалась упущена.
К сорока двум годам – а средняя продолжительность жизни в ту эпоху равнялась сорока – Леонардо был создателем нескольких картин, причудливого музыкального инструмента, эфемерных декораций к праздникам и маскарадам, а еще – автором многих сотен страниц заметок и набросков к трактатам, которые пока не опубликовал, и чертежей механизмов, которые пока не построил.[51] Целая пропасть отделяла его достижения от его притязаний. Каждый, кто был знаком с ним лично или видел его работы, оказывался поражен неподражаемым блеском. Однако, как это ни досадно, очень многие его начинания заканчивались ничем. Он мечтал о работе зодчего, но в 1490-м надежды эти рухнули, когда его деревянная модель башни с куполом для недостроенного Миланского собора была отвергнута. Он попытался получить заказ на проектирование и отливку бронзовых дверей собора в Пьяченце и даже написал настоятелю анонимное письмо, где прославлял собственные таланты: «Никто с этим не справится, верьте моему слову, кроме флорентинца Леонардо».[52] Однако в Пьяченцу его так и не пригласили. Он создал подробный план новой застройки Милана – предполагалось разделить город на десять округов по пять тысяч зданий в каждом; план включал в себя пешеходные зоны, орошаемые сады и хорошо вентилируемые общественные уборные. В дело из этого плана не пошло решительно ничего. У Лодовико же тем временем нарастали сомнения в способности Леонардо завершить работу над конной статуей – был момент, когда он даже послал во Флоренцию на поиски замены.
Порой Леонардо впадал в уныние из-за того, что он столь малого достиг. Судя по всему, в молодости у него была склонность к меланхолии. «Леонардо, – писал ему один из друзей, – зачем так унывать?» Этот грустный рефрен постоянно звучит в его записных книжках: «Когда бы хоть что-то осуществилось», – вздыхает он то и дело. «Когда бы я хоть что-то осуществил».[53]
* * *Леонардо появился на свет в 1452 году, в каменном, квадратной планировки доме неподалеку от Винчи, «непримечательной деревушки» (как назвал ее один из первых его биографов) в двадцати пяти километрах к западу от Флоренции.[54] Восьмидесятилетний дедушка с гордостью задокументировал его рождение в переплетенном в кожу семейном альбоме: «У меня родился внук, сын моего сына сера Пьеро, 15 апреля, в субботу, в третьем часу ночи. Наречен именем Лионардо».[55] Звать его, собственно, будут Леонардо ди сер Пьеро да Винчи – именно так двадцать лет спустя он зарегистрируется в Компанья ди Сан-Лука, флорентийском братстве художников. При дворе Сфорца его иногда станут называть «Леонардо Фиорентино» или – в латинизированной форме – «Леонардус де Флорентиа». Так именует его в документах Лодовико.[56] Соответственно, придворный художник и инженер герцога носил имя не малопримечательной тосканской деревушки, а славного города Флоренции.
Отец Леонардо, двадцатишестилетний сер Пьеро, был нотариусом, человеком весьма высокого общественного положения (что можно заключить из его титула): он составлял завещания, договоры, прочие коммерческие и юридические документы. Нотариусы в семье имелись как минимум на протяжении пяти поколений, однако на Леонардо цепочке этой суждено было прерваться. Был он – это следует из дедовской налоговой декларации несколько лет спустя – non legittimo, то есть рожденным вне брака, а значит, не имел права (наравне с преступниками и духовными лицами) претендовать на членство в Гильдии судей и нотариусов. Матерью Леонардо была шестнадцатилетняя Катерина – по своему социальному положению она явно стояла куда ниже толкового и честолюбивого Пьеро, вследствие чего они так и не поженились.
О Катерине нам не известно почти ничего. Возможно, она была служанкой в доме. Недавно возникла теория, что она, как и многие слуги в Тоскане, была рабыней-чужеземкой. Столетием раньше флорентийские градоначальники издали указ, который позволял ввозить в город рабов, но только иноверцев, не христиан; по прибытии во Флоренцию их надлежало окрестить и дать им христианские имена (имя Катерина часто выбирали для этой цели). Состоятельные флорентинцы могли покупать рабов – в основном молодых женщин, которых брали в услужение, – из стран Причерноморья (турчанок, татарок, черкешенок) или из Северной Африки. Стоила такая рабыня от тридцати до пятидесяти флоринов – полугодовой доход квалифицированного ремесленника, – однако в XV веке их стало столько, что в популярной песенке пелось про «молодых рабынь-красавиц», которые высовываются из окон, «по утрам проветривая платье, / свежие, как барбарисов цвет».[57]
Интересно, что у состоятельного друга сера Пьеро, флорентийского банкира по имени Ванни ди Никколо, была рабыня по имени Катерина, а после смерти Ванни в 1451 году сер Пьеро унаследовал его дом во Флоренции и сделался его душеприказчиком. Согласно одной из гипотез, дружба с Ванни и положение душеприказчика могли открыть Пьеро путь к сердцу Катерины. Это объясняет и предположение, выдвинутое одним ученым-антропологом, который выяснил, что отпечатки пальцев, якобы принадлежащие Леонардо, имеют дерматоглифическую структуру (то есть папиллярный узор), типичный для выходцев с Ближнего Востока. Это заявление породило громкие заголовки – что, мол, Леонардо был арабом; скептики, впрочем, утверждают, что, во-первых, установить национальную принадлежность по отпечаткам пальцев почти невозможно, а во-вторых, отпечатки, снятые с записных книжек Леонардо, могут принадлежать и не ему.[58]
За полным отсутствием сведений о Катерине, все теории о том, что мать Леонардо была рабыней, а сам он имел ближневосточные корни, остаются только теориями. Однако нам точно известно, что воспитывался Леонардо в доме отца и деда, а Катерина исчезла из его жизни. Дети рабов, как правило, являлись свободнорожденными людьми, церковь позволяла отцам признавать их и делать законными наследниками. Матерям же, как правило, выделяли небольшое приданое и выдавали их замуж за другого. Что касается Катерины, вскоре после рождения Леонардо она вышла замуж за местного горнового по прозвищу Аккаттабрига. Слово это означает «Забияка», – судя по всему, женихом он был не слишком завидным. После Леонардо у нее родилось еще пятеро детей, четыре дочери и сын, и она жила в относительной бедности в Кампо-Дзеппи, неподалеку от Винчи. О семействе Аккаттабриги известно лишь то, что в 1480-е годы один из сыновей, брат Леонардо по матери, который, похоже, вырос забиякой, как и его отец, погиб в Пизе от арбалетного выстрела.[59]
Вскоре после рождения Леонардо Пьеро женился на другой шестнадцатилетней девушке, звали ее Альбьера. Ее общественное положение было гораздо выше, происходила она из зажиточной семьи флорентийских нотариусов – куда более многообещающая партия для молодого и честолюбивого сера Пьеро. Альбьера скончалась, когда Леонардо было двенадцать лет, так и не став матерью. Вторая жена сера Пьеро, Франческа, умерла в 1473 году, тоже бездетной. Леонардо оставался единственным сыном, пока в 1476 году третья жена сера Пьеро наконец не подарила ему сына, – к этому времени Леонардо уже исполнилось двадцать четыре года и он больше не жил дома. В итоге у сера Пьеро родилось больше дюжины детей – согласно одному недавнему исследованию, их было не меньше двадцати одного.[60]
Судя по всему, рос Леонардо в любви. Как старший сын, он пользовался в доме отца и деда особым почетом. На крестинах его присутствовало как минимум десять крестных – это говорит еще и о том, что для семьи рождение мальчика отнюдь не являлось постыдным фактом. Положение незаконнорожденного закрыло ему двери в университет и в юридическую профессию, однако, похоже, больше никак на нем не отразилось. В Италии XV века незаконнорожденность не влекла за собой серьезных ущемлений. Литераторы Петрарка и Боккаччо, архитектор Леон Баттиста Альберти, художники Филиппо Липпи и его сын Филиппино и даже будущий папа Климент VII – все они родились вне брака. Когда в 1459 году папа Пий II проезжал через Феррару, приветствовать его вышли восемь бастардов из правящего семейства, в том числе и тогдашний герцог Борсо д’Эсте. Возможно, одна из причин снисходительного отношения Пия к клану д’Эсте заключалась в том, что до принятия сана он сам произвел на свет нескольких незаконнорожденных детей. «Что может быть человеку приятнее, – писал он отцу, укорявшему его в греховных связях, – чем продолжить свой род и оставить кого-то после себя? <…> Воистину, то, что семя мое столь плодородно, доставляет мне великую радость».[61]
Вероятно, и сер Пьеро не меньше радовался появлению сына, хотя, по неведомым причинам, так и не признал его законным наследником. Впрочем, это дало Леонардо одно неоспоримое преимущество: оно закрыло ему путь в юриспруденцию, позволив посвятить себя более творческим и разнообразным занятиям, – подобным же образом Петрарка и Боккаччо, почти не испытывая общественного осуждения, оказались свободны от притязаний со стороны церкви или гильдий и, соответственно, могли экспериментировать с новыми формами самовыражения.
Обучение Леонардо, по всей видимости, проходил самое обыкновенное, никто не собирался делать из него гения, которым он в итоге все-таки стал. С шести до одиннадцати лет он, скорее всего, обучался в начальной школе, называвшейся во Флоренции bottegbuzza, так как основная задача ее состояла в том, чтобы подготовить учеников к работе в bottega (мастерской). Обязанности учителя исполнял священник или нотариус, ученики обучались чтению и письму, по большей части – на богатом идиомами тосканском диалекте итальянского языка. Леонардо, скорее всего, немного освоил латынь по грамматике, известной как «Donadello». Впоследствии таких грамматик у него было не менее шести экземпляров, по одному из них, должно быть, он занимался еще в школе. Усердное складирование элементарных пособий по латыни свидетельствует о том, что Леонардо, несмотря на все свои способности, владел латынью не в совершенстве, а возможно, и просто слабо. Самую серьезную попытку освоить ее он предпринял ближе к сорока, в Милане, когда переписывал фрагменты из распространенного учебника Никколо Перотти «Rudimenta grammatices». То, что даже один из величайших умов во всей истории спотыкался на «amo, amas, amat», должно служить утешением всякому, кто когда-либо пытался учить иностранный язык.
Достигнув одиннадцатилетия, ученики отправлялись либо в гимназию, где изучали латинских авторов, готовясь к научному поприщу, либо в ремесленное училище, где больше занимались математикой, чем словесностью. Леонардо, скорее всего, посещал последнее. Учащихся ремесленных училищ немного знакомили с литературой – например, с произведениями Эзопа и Данте, но в основном они занимались математикой: их готовили к коммерческому поприщу. Хороший пример того, что должны были освоить ученики, можно найти в «Trattato d’Abaco» Пьеро делла Франчески – Пьеро утверждал, что это трактат по «математике, необходимой купцам». Среди многочисленных упражнений есть одно, которое ярко иллюстрирует, какими головоломными были торговые операции в Италии XV века: «Два человека проводят сделку по обмену, один предлагает воск, другой – шерсть. Цена воска – 9 дукатов с четвертью, цена сделки – 10 и две трети; у второго шерсть, цену за тысячу я не знаю, но обменный курс – 34 дуката; сделка прошла честно. Сколько стоит шерсть в денежном выражении?»[62]
Один из самых ранних биографов Леонардо, художник и архитектор Джорджо Вазари, утверждал, что Леонардо обладал такими математическими способностями, что, «постоянно выдвигая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, у которого он обучался, он не раз ставил его в тупик».[63] Вазари не был лично знаком с Леонардо (он родился в 1511 году), и многие его утверждения весьма спорны. Однако трудно усомниться в том, что Леонардо был любознательным и способным учеником, блистал в геометрии и особенно в рисовании. При этом он не слишком увлекался арифметикой и никогда не пользовался алгеброй.