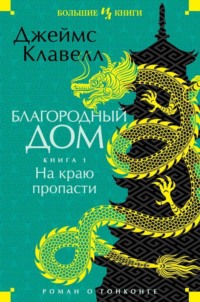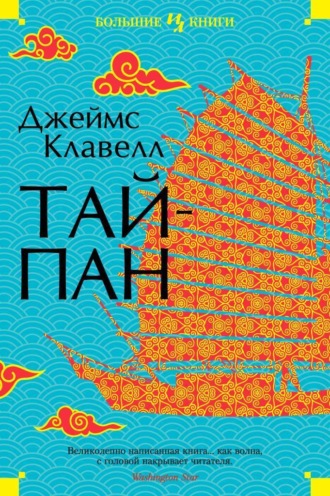
Полная версия
Тайпан
Глессинг круто обернулся. Он не собирался сносить подобный тон ни от кого рангом ниже вице-адмирала.
– Флаг поднимут, мистер Брок, не раньше, чем его превосходительство прибудет на берег или с флагмана будет дан сигнал пушечным выстрелом.
– И когда же это произойдет?
– Если не ошибаюсь, еще не все собрались.
– Вы имеете в виду Струана?
– Ну разумеется. Разве он не тайпан Благородного Дома? – Глессинг сказал это сознательно, зная, что тем самым разозлит Брока, а затем добавил: – Я предлагаю вам вооружиться терпением. Никто не приказывал вам, торгашам, высаживаться сегодня на берегу.
Брок покраснел от гнева:
– Вам лучше научиться отличать торговцев от торгашей. – Он передвинул языком за щеку кусок жевательного табака и сплюнул на камни под ноги Глессингу. Несколько капелек слюны попали на безукоризненно вычищенные туфли с серебряными пряжками. – Прошу прощения, – обронил Брок с издевательским смирением и отошел в сторону.
Лицо Глессинга словно окаменело. Не будь этого «прошу прощения», он вызвал бы Брока на дуэль. Гнусное отребье! – подумал он, кипя от возмущения.
– Виноват, прошу прощения, сэр, – обратился к нему главный старшина корабельной полиции, отдавая честь. – Сигнал с флагмана.
Глессинг прищурился от резкого ветра. Сигнальные флажки возвещали: «Всем капитанам прибыть на борт к четырем склянкам». Прошлой ночью Глессинг присутствовал на приватной беседе адмирала с Лонгстаффом. Адмирал категорически утверждал, что именно контрабанда опиума являлась причиной всех беспорядков в Азии. «Черт возьми, сэр, они утратили всякое чувство приличия! – громогласно возмущался он. – Ни о чем не хотят думать, кроме денег. Запретите продавать опиум, и у нас, черт возьми, не будет никаких проблем ни с этими дьяволами-язычниками, ни с торговцами, черт бы их побрал! Флот ее величества проследит за выполнением вашего приказа, клянусь Господом Богом!» Лонгстафф согласился с ним – и правильно сделал. Приказ, видимо, будет оглашен сегодня, думал Глессинг, с трудом сдерживая ликование. Хорошо. Самое время. Интересно, Лонгстафф уже сказал Струану о том, что отдает такой приказ?
Капитан Глессинг оглянулся через плечо на лениво приближающийся к берегу баркас. Струан всегда поражал его. Он восхищался им и ненавидел его – непревзойденного морехода, который избороздил все океаны мира, уничтожая людей, компании и корабли ради процветания Благородного Дома. Он так не похож на Робба, подумал Глессинг, Робб мне скорее нравится.
Он против воли содрогнулся. Возможно, и есть доля правды в тех сказках, которые шепотом пересказывают друг другу моряки на всех китайских морях, будто Струан тайно поклоняется дьяволу и тот за это наделил его властью на земле. Иначе как еще человек его лет мог бы выглядеть так молодо и сохранить свою силу, белые зубы, густые волосы и молниеносную реакцию, когда большинство людей в этом возрасте уже нетвердо держатся на ногах, ни на что не годны и выглядят полуживыми? И уж конечно, на кого Струан наводил ужас, так это на китайцев. Они называли его Старая Зеленоглазая Крыса-Дьявол и назначили награду за его голову. Награды, правда, были назначены за голову каждого европейца, но голова тайпана оценивалась в сто тысяч серебряных таэлей. Мертвого. Потому что никто не мог даже надеяться захватить его живым.
Глессинг с раздражением попытался пошевелить пальцами ног в туфлях с пряжками. Ноги ныли от холода, и он чувствовал себя неудобно в парадной форме с золотым позументом. Черт побери все эти проволочки! Черт побери этот остров, и эту гавань, и это бессмысленное использование добрых английских кораблей и добрых английских моряков! Ему вспомнились слова отца: «Разрази Господь этих штатских! Все, о чем они пекутся, – это деньги и власть. Им неведомо чувство чести. Они просто не знают, что это такое. Когда тобой командует гражданский чин, смотри в оба, сынок. И не забывай, что даже Нельсон прикладывал подзорную трубу к слепому глазу, когда им помыкал какой-нибудь олух в партикулярном платье». Как может Лонгстафф быть таким непроходимо глупым? Он ведь из хорошей семьи, получил прекрасное воспитание – его отец был дипломатом при испанском дворе. Или португальском?
И зачем Струану понадобилось убеждать Лонгстаффа прекратить военные действия? Конечно, мы получили гавань, которая способна вместить все флоты мира. Но что еще?
Глессинг обвел взглядом суда в гавани. Двадцатидвухпушечный корабль Струана «Китайское облако». «Белая ведьма», тоже с двадцатью двумя пушками, – гордость компании Брока. Двадцатипушечный бриг Купера и Тиллмана «Принцесса Алабамы». Красавцы, все до единого. Н-да, подумал Глессинг, за них стоило бы подраться. Я знаю, что могу пустить ко дну американцев. Брок? Трудная задача, но я лучше Брока. Струан?
Джордж Глессинг попробовал представить себе морскую схватку со Струаном и вдруг понял, что боится Струана. Этот страх разозлил его и заставил до боли жалеть, что Брок, Струан, Купер и все остальные китайские торговцы не пираты.
Бог свидетель, поклялся он, как только приказ Лонгстаффа будет объявлен официально, я поведу флотилию, которая разнесет их всех в пух и прах.
Аристотель Квэнс задумчиво сидел перед наполовину законченной картиной на мольберте. Это был крошечный человечек с черными седеющими волосами. Его одежда, в отношении которой он отличался почти болезненной щепетильностью, соответствовала последней моде: облегающие серые брюки, белые шелковые носки, черные туфли с бантами, жемчужно-серый атласный жилет и сюртук из черной шерсти. Наряд довершали высокий воротник и галстук с жемчужной заколкой. Наполовину англичанин, наполовину ирландец, Квэнс в свои пятьдесят восемь лет был старейшим европейцем на Востоке.
Сняв очки в золотой оправе, он принялся протирать их белоснежным платком, украшенным французскими кружевами. Я жалею, что дожил до этого дня, думал он. А все этот Дирк Струан, черт бы его побрал! Не будь его, не было бы и этого проклятого Гонконга.
Квэнс чувствовал, что присутствует при закате эпохи. Гонконг означает конец Макао, думал он. Этот остров перетянет сюда всю торговлю. Все английские и американские тайпаны переедут сюда со своими главными конторами. Отныне они будут жить и строиться здесь. Вслед за ними сюда переберутся португальские клерки. И все китайцы, которые кормятся за счет европейцев и торговли с Западом. Ну и пусть. Я, по крайней мере, никогда здесь жить не буду, поклялся он. Время от времени придется приезжать сюда ненадолго, чтобы подзаработать, но Макао навсегда останется моим домом.
Макао был его домом уже больше тридцати лет. Квэнс единственный из всех европейцев думал о Востоке как о своем доме. Другие приезжали сюда на несколько лет, потом возвращались на родину. Оставались только те, кто здесь умирал. Но даже и в этом случае, если это было им по карману, они писали в своих завещаниях, чтобы их тела отправили домой.
Меня, благодарение Господу, похоронят в Макао, говорил себе старый художник. Какие славные времена я там знавал, знавали мы все! Теперь это в прошлом. Черт бы побрал китайского императора! Надо быть полным идиотом, чтобы разрушить здание, с таким умом построенное сто лет назад.
Все шло так замечательно, с горечью подумал Квэнс, и вот Гонконг принадлежит нам. Мощь Англии утвердилась на Востоке, и торговцы вкусили власти, теперь они уже не ограничатся одним этим островом.
– Что же, – нечаянно произнес он вслух, – император пожнет то, что посеял.
– Почему так мрачно, мистер Квэнс?
Квэнс надел очки. Прямо у подножия холмика, на котором он расположился, стоял Морли Скиннер.
– Не мрачно, молодой человек. Печально. Художник имеет особое право – даже обязанность – быть печальным. – Он отложил незаконченную картину в сторону и укрепил на мольберте чистый лист бумаги.
– Вполне, вполне с вами согласен. – Скиннер с трудом поднялся к нему наверх. Его бледные карие глаза напоминали цветом прокисшие остатки пива в кружке. – Я, знаете ли, просто хотел услышать ваше мнение об этом великом дне. Мы готовим специальный выпуск. Без нескольких слов от нашего старейшего жителя номер был бы неполным.
– Совершенно верно, мистер Скиннер. Вы можете написать следующее: «Мистер Аристотель Квэнс, наш ведущий художник, бонвиван и обожаемый друг, отклонил предоставленную ему возможность высказаться со страниц газеты, находясь в процессе создания очередного шедевра». – Он взял щепоть табака и громоподобно чихнул. Затем платком смахнул табачные крошки с сюртука и брызги слюны с бумаги на мольберте. – Желаю вам всего хорошего, сэр. – Он сосредоточился на белоснежном листе. – Вы мешаете свершиться бессмертному творению.
– Я в точности знаю все, что вы сейчас чувствуете, – сказал Скиннер, довольно кивая. – В точности. Я и сам чувствую то же самое, когда мне предстоит написать нечто значительное. – Он повернулся и тяжело двинулся дальше.
Квэнс не доверял Скиннеру. Ему никто не доверял. По крайней мере, никто из тех, чье прошлое хранило какие-то тайны, а таких здесь было большинство. Скиннер любил вытаскивать всякую всячину из тьмы лет на свет божий.
Прошлое. Квэнс вспомнил о своей жене и весь передернулся. Смерть, гром и молния! Как я мог быть таким глупцом, чтобы поверить, будто это ирландское чудище способно стать достойной подругой жизни? Благодарение Господу, она вернулась в свое мерзкое ирландское болото и больше не омрачит чистого неба над моей головой. Женщины – источник всех бед и страданий, выпадающих на долю мужчины на этом свете. Ну, осторожно добавил он, пожалуй, все-таки не все из них. Уж никак не моя милая, дорогая Мария Тан. Ах, вот лакомый кусочек, или я ничего не понимаю в женщинах! А уж если кому и дано оценить, какое чудо получается, когда португальская кровь смешивается с китайской, то это тебе, славный, мудрый старина Квэнс. Черт побери, все-таки я прожил удивительную жизнь!..
И он вдруг отчетливо осознал, что, наблюдая закат одной эпохи, он одновременно становится и частью другой. Здесь сейчас открывается первая страница новой истории, очевидцем которой ему предстояло стать и которую его кисть была призвана запечатлеть. Появятся новые лица, которые он нарисует, новые корабли, которые он напишет. Новый город, который он увековечит в своих картинах. И новые девушки, за которыми можно будет приволокнуться, новые попки, которые можно будет ущипнуть.
– Печальным! Да никогда в жизни! – проревел он. – За работу, Аристотель, старый ты пердун!
Те из собравшихся на пляже, кто услышал последнее восклицание Квэнса, весело переглянулись. Старый художник был жутко популярен, и его компании искали многие. И все знали о водившейся за ним привычке разговаривать вслух с самим собой.
– Сегодняшний день был бы совсем не тот без доброго старого Аристотеля, – с улыбкой заметил Горацио Синклер.
– Да. – Вольфганг Маусс раздавил вошь в своей бороде. – Он так уродлив, что кажется почти красавчиком.
– Мистер Квэнс – великий художник, – сказал Гордон Чэнь. – Следовательно, он прекрасен.
Маусс повернулся всем телом и в упор посмотрел на евразийца.
– Следует говорить «красив», мой мальчик. Неужели я так плохо учил тебя все эти годы, что ты не чувствуешь разницы между словами «прекрасный» и «красивый»? И он не великий художник. Он пишет в отличном стиле, и он мой друг, но волшебства великого мастера у него нет.
– Я употребил слово «прекрасен» в художественном смысле, сэр.
Горацио заметил, как на лице Гордона Чэня промелькнуло раздражение. Бедный Гордон, подумал он, от души жалея юношу. Чужой в равной степени и тому миру, и этому. Отчаянно пытающийся быть англичанином, но при этом не расстающийся со своим халатом и косичкой. Хотя все знали, что он сын тайпана, прижитый им от китайской наложницы, никто не признавал его открыто, даже отец.
– Я считаю, что его картины удивительны, – сказал Горацио, смягчая тон. – И сам он тоже. Странно, все его обожают, и все же мой отец презирал его.
– О, твой отец, – вздохнул Маусс. – Он был святым среди нас. Он сохранил в душе высокие христианские принципы, не то что мы, бедные грешники. Да упокоится душа его с миром.
Нет, подумал Горацио. Пусть душа его горит в аду во веки вечные.
Преподобный Синклер прибыл и поселился в Макао с первой группой английских миссионеров тридцать с небольшим лет назад. Он помогал переводить Библию на китайский язык и был одним из учителей в английской школе, которую основала миссия. Всю жизнь его почитали как достойнейшего человека – исключение составлял лишь тайпан, – и когда он умер семь лет назад, похоронили как святого.
Горацио мог простить отцу, что тот раньше времени свел в могилу их мать, мог простить ему те высокие принципы, которые превратили его в злобного тирана с узким, ограниченным взглядом на жизнь, его фанатичную веру в Бога грозного и карающего, его одержимую приверженность миссионерской работе и побои, которые он обрушивал на собственного сына. Но даже по прошествии всех этих лет Горацио не мог простить отцу то, как он избивал Мэри, и те проклятия, которые он неустанно призывал на голову тайпана.
Тайпан подобрал маленькую Мэри, когда она, шестилетняя девочка, в ужасе убежала из дому. Он успокоил ее, а потом отвел домой к отцу и предупредил его, что, если тот еще хоть пальцем дотронется до крошки, он прилюдно стащит его с проповеднической кафедры в церкви и будет гнать кнутом через все улицы Макао. С тех пор Горацио боготворил тайпана. Избиения прекратились, но отец был изобретателен на наказания. Бедная Мэри!
При мысли о Мэри сердце его забилось быстрее, и он посмотрел на флагманский корабль, ставший их временным пристанищем. Он знал, что сейчас она смотрит на берег и так же, как он, считает дни, оставшиеся до их благополучного возвращения в Макао. Всего лишь сорок миль отсюда на юг, но как далеко. В Макао Горацио прожил все свои двадцать шесть лет, не считая того времени, что учился дома, в Англии. Школу он ненавидел – и дома, и в Макао. Он ненавидел уроки, которые проводил с ним отец. Горацио отчаянно старался угодить ему, но это не удавалось. В отличие от Гордона Чэня, который был первым евразийским мальчиком, принятым в английскую школу Макао. Гордон Чэнь оказался блестящим учеником и неизменно заслуживал одобрение преподобного отца Синклера. Но Горацио не завидовал ему: у Гордона был свой мучитель – Маусс. За каждую порку, которую Горацио получал от отца, Маусс давал Гордону Чэню три. Маусс тоже был миссионером, он преподавал английский, латынь и историю.
Горацио расправил нывшие от холода плечи. Он увидел, что Маусс и Гордон Чэнь опять не отрываясь смотрят на баркас, и в который раз спросил себя, почему Маусс так жестоко обходился с молодым человеком в школе, почему требовал от него столь многого. Он полагал, что причиной тому была ненависть, которую Вольфганг испытывал к тайпану. Ненависть, вызванная тем, что тайпан видел его насквозь и поэтому предложил ему деньги и место переводчика в контрабандных рейсах вдоль побережья, позволив за это распространять Библию на китайском языке и проповедовать язычникам на каждой стоянке, но только после того, как опиум будет продан. Горацио считал, что Вольфганг презирает себя за лицемерие и за то, что участвует в таком зле. За то, что его заставили притворяться, будто цель оправдывает средства, когда он знал, что это не так.
Странный ты человек, Вольфганг, думал Горацио. Он вспомнил, как в прошлом году они вместе отправились на только что захваченный остров Чушань. Лонгстафф с одобрения тайпана назначил туда Маусса временным магистратом для поддержания порядка на период военных действий и отправления британского правосудия.
Вопреки обычаю, на Чушане были отданы строгие приказы, запрещавшие грабеж и насилие. Маусс проводил над каждым мародером – китайцем, индусом, англичанином – честный, открытый суд и затем приговаривал его к смерти, произнося при этом одни и те же слова: «Gott im Himmel[2], прими сию заблудшую душу. Повесить его». Вскоре грабежи прекратились.
Поскольку между повешениями Маусс любил предаваться в суде воспоминаниям, Горацио узнал, что тот был трижды женат, каждый раз на англичанке, что первые две жены скончались от дизентерии и нынешняя тоже часто болеет. Что, хотя Маусс был преданным мужем, дьявол по-прежнему и с неизменным успехом искушал его борделями и винными погребами Макао. Что Маусс выучил китайский у язычников в Сингапуре, куда был направлен еще совсем молодым миссионером. Что двадцать лет из своих сорока он прожил в Азии и за все это время ни разу не побывал дома. Что теперь он носил с собой пистолеты, потому что «никогда не угадаешь, Горацио, вдруг один из этих дьяволов-язычников захочет убить тебя или эти богопротивные пираты позарятся на твое добро». Что всех людей он считал грешниками и себя – первейшим среди них. И что его единственной целью в жизни осталось обращение язычников в истинную веру, дабы сделать Китай христианским государством.
– Чем это так занята твоя голова? – Неожиданный вопрос прервал течение мыслей Горацио.
Он увидел, что Маусс внимательно смотрит на него.
– Нет, так, ничего, – поспешно ответил он. – Я просто… просто размышлял.
Маусс задумчиво поскреб бороду:
– Вот и я тоже. В такой день есть над чем поразмыслить. Азия теперь уже никогда не будет прежней.
– Да. Наверное, вы правы. Вы собираетесь уехать из Макао? Будете строиться здесь?
– Да. Куплю себе земли. Хорошо бы иметь собственную землю подальше от этой папистской выгребной ямы. Моей жене здесь понравится. Ну а мне? Даже не знаю. Сердце мое там, – добавил Маусс голосом, полным тоски, и махнул огромным кулаком в сторону материка.
Горацио увидел, как глаза Маусса, устремленные вдаль, вдруг стали бездонными. Почему Китай так завораживает людей, спросил он себя.
Он окинул усталым взглядом пляж, зная, что не найдет ответа на свой вопрос. О, если бы я был богат! Пусть не так богат, как тайпан или Брок, но все же достаточно, чтобы построить красивый дом, принимать у себя торговцев и устроить для Мэри роскошное путешествие домой через всю Европу.
Ему нравилось работать переводчиком и личным секретарем его превосходительства, но денег, которые он получал на службе, ему не хватало. В этом мире без денег не обойтись. У Мэри должны быть бальные платья и бриллианты. Обязательно. Но даже несмотря на скудное жалованье, он был рад, что ему не приходится зарабатывать свой хлеб насущный так, как это делали китайские торговцы. Торговцам нужно быть безжалостными, слишком безжалостными, и жизнь их полна опасностей. Многие из тех, кто сейчас мнит себя богачом, останутся без гроша в кармане через какой-нибудь месяц. Один невернувшийся корабль – и все для них может быть кончено. Даже Благородный Дом время от времени нес убытки. Возвращения их клипера «Багровое облако» ждали еще месяц назад. Возможно, он попал в шторм, кое-как добрался до берега с дырой в корпусе и сейчас чинится и переоснащается на безвестном острове где-нибудь между Гонконгом и Землей Ван-Димена[3], отклонившись от курса на две тысячи миль. Но скорее всего, он покоится на дне морском с грузом опиума на полмиллиона гиней в трюме.
А как человеку, если он торговец, приходится поступать с людьми, даже с друзьями, чтобы просто выжить, не говоря уже о том, чтобы преуспевать. Чудовищно!
Он заметил, как Гордон Чэнь неотрывно смотрит на баркас, словно прикованный к нему взглядом, и попытался угадать, о чем он думает. Это, должно быть, ужасно, когда в тебе течет кровь двух рас. Наверное, если уж говорить откровенно, Гордон тоже ненавидит тайпана, хотя и притворяется, что это не так. Я бы на его месте ненавидел…
Гордон Чэнь думал об опиуме. И мысленно благословлял его. Не будь опиума, не было бы и Гонконга, а Гонконг, с восторгом говорил он себе, – это самая невероятная возможность делать деньги, которая когда-либо могла мне представиться. И для Китая это большая удача, подлинный подарок йосса, о каком нельзя было даже мечтать.
Если бы не было опиума, продолжал он, не было бы торговли с Китаем. Если бы не было торговли с Китаем, у тайпана никогда не появилось бы столько денег, чтобы выкупить из борделя мою мать, и я бы никогда не родился на свет. Опиум дал отцу те деньги, на которые он много лет назад купил матери дом в Макао. Опиум кормит нас и одевает. Опиум позволил заплатить за мое обучение в школе, за моих английских и китайских наставников – и вот сегодня я самый образованный молодой человек на всем Востоке.
Гордон взглянул на Горацио Синклера, который с хмурым видом смотрел вокруг себя, и почувствовал укол зависти оттого, что Горацио ездил учиться домой. Сам он еще никогда не был дома.
Однако он тут же прогнал от себя это чувство. «Дом» придет позже, радостно пообещал он себе. Через несколько лет.
Чэнь повернулся и вновь посмотрел на баркас. Тайпана он боготворил, хотя никогда не называл Струана «отец» и тот никогда не говорил ему «мой сын». В действительности за всю жизнь Струан разговаривал с ним раз двадцать или тридцать, не больше. Но Гордон старался, чтобы отец гордился им, и в мыслях своих всегда думал о нем как об отце. Гордон не уставал благословлять Струана за то, что он продал его мать Чэнь Шэну, чтобы тот сделал ее своей третьей женой. Мой йосс поистине огромен, думал он.
Чэнь Шэн являлся компрадором Благородного Дома и к Гордону Чэню относился почти как к сыну. В качестве китайского посредника он покупал и продавал товары для Струана. Любой товар, крупный или мелкий, обязательно проходил через его руки. По обычаю, на каждый вид товара он набрасывал определенный процент. Эти деньги и составляли его личный доход. Но поскольку доходы компрадора зависели от благосостояния компании, на которую он работал, и, кроме этого, ему приходилось оплачивать большие долги, он должен был проявлять в делах крайнюю осторожность и быть очень дальновидным, чтобы разбогатеть.
Ах, думал Гордон Чэнь, если бы я был так же богат, как Чэнь Шэн! Или еще лучше, как Жэнь-гуа, дядя Чэнь Шэна. Гордон улыбнулся про себя, удивляясь, насколько трудно давались англичанам китайские имена. Жэнь-гуа звали Чэнь-цзе Жэнь Ин, но даже тайпан, который знал Чэнь-цзе Жэнь Ина почти тридцать лет, до сих пор не научился правильно выговаривать его имя. Поэтому много лет назад тайпан дал ему прозвище Жэнь; «гуа», которое к нему обычно добавляли, являлось скверно произнесенным китайским словом «господин».
Гордон Чэнь знал, что китайские купцы с легким сердцем принимали свои исковерканные имена: они только веселили их, лишний раз доказывая, насколько далеки от культуры эти дикари из далекой Европы. Гордон вспомнил, как ребенком он тайком наблюдал через дыру в ограде сада за Чэнь-цзе Жэнь Ином и Чэнь Шэном, когда те курили опиум. Он слышал, как они смеялись над его превосходительством – мандарины Кантона дали Лонгстаффу прозвище Грозный Пенис, обыграв на свой лад его фамилию[4], и иероглифы с этим значением использовались в адресуемых ему официальных посланиях больше года, пока Маусс не рассказал Лонгстаффу об этом, испортив замечательную шутку.
Он исподтишка взглянул на Маусса. Гордон уважал его как твердого, не ведающего жалости учителя, был благодарен ему за то, что тот заставил его стать лучшим учеником школы. И одновременно с этим презирал его за грязь, вонь и звериную жестокость.
Гордону Чэню нравилась школа при миссии, нравилось учиться, сидеть в классе вместе с другими учениками. Но однажды он узнал, что он не такой, как остальные дети. Маусс поднял его и при всех растолковал значение слов «бастард», «незаконнорожденный» и «полукровка». Гордон тогда в смятении убежал из школы. Дома он впервые взглянул на мать другими глазами и исполнился презрения к ней за то, что она китаянка.
Потом он узнал, глядя на нее сквозь еще не высохшие слезы, что быть китайцем даже наполовину – большое счастье, потому что китайцы – самая чистая раса на земле. И еще он узнал, что тайпан его отец.
– Но почему же тогда мы живем здесь? Почему «отец» – это Чэнь Шэн?
– У варваров бывает только одна жена, и они не женятся на китаянках, сын мой, – объяснила ему Кай-сун.
– Почему?
– Такой у них обычай. Глупый обычай. Но так уж они устроены.
– Я ненавижу тайпана! Ненавижу! Ненавижу его! – вырвалось у мальчика.
Мать ударила его по лицу. Наотмашь. Раньше она никогда его не била.
– На колени! На колени и проси прощения! – гневно заговорила она. – Тайпан – твой отец. Он дал тебе жизнь. Он мой бог. Он выкупил меня для себя, а потом облагодетельствовал, продав Чэнь Шэну как жену. С чего бы, ты думаешь, Чэнь Шэн, который мог купить себе тысячу девственниц, стал брать в жены женщину с двухлетним сыном нечистой крови, когда бы тайпан не захотел так? Зачем бы тайпан стал тратить столько денег и покупать мне дом, если бы он не любил нас? И почему ренту получаю я, а не Чэнь Шэн, если бы сам тайпан не распорядился так? Почему даже сейчас, когда мне столько лет, Чэнь Шэн так хорошо относится ко мне, если не уважает неизменное расположение к нам тайпана? Отправляйся в храм и долгими поклонами вымоли себе прощение. Тайпан дал тебе жизнь. Поэтому люби и почитай его, и благословляй его, как благословляю его я. И если ты еще хоть раз произнесешь такие слова, я навсегда отвернусь от тебя.