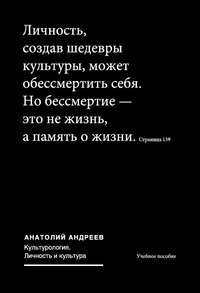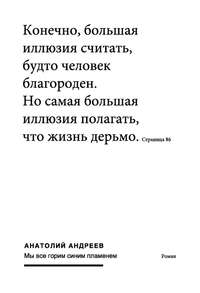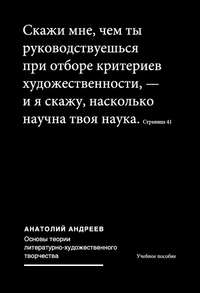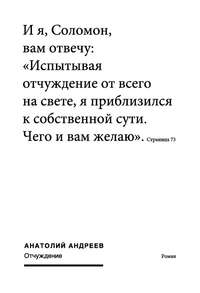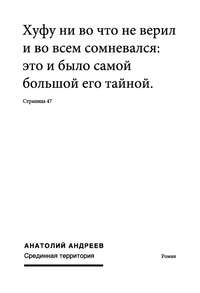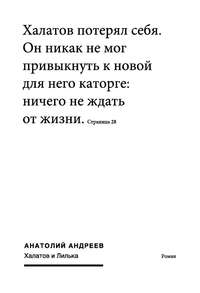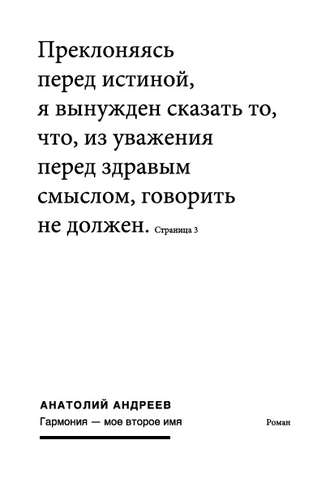
Полная версия
Гармония – моё второе имя
– Очень жаль. Ты так понравился мне, и особенно Рите. Хорошо, что ты не успел войти в нашу жизнь: нам бы тебя очень не хватало. Удачи.
Короткие гудки.
Так завершилась история, берущая начало в детсадовской эпохе. Так сказать, усох еще один сук на древе жизни. Вся жизнь наша состоит из подобных историй; большой соблазн грамотно их расположить и связно о них рассказать. Кажется, что непременно получится захватывающий роман – вырастет огромное дерево с пышной крепкой кроной, и следы обрубленных сучьев, словно рваные шрамы, будут только украшать кору-кольчугу, напоминая о прошлом, у которого было сомнительное будущее.
Но нет, пожалуй, историй-обрубков будет маловато: утратится объемность и иллюзия жизни; из обрубленных сучьев не создашь живое дерево. Все истории держатся на стволовом смысле, понятен он вам или нет. Роман написать так же сложно, как прожить жизнь: все время движешься вслепую, наощупь… Главное, чтобы в верном направлении.
Вот, скажем, куда теперь?
У меня не было никаких обязательств ни перед кем, не считая, пожалуй, самого себя; я был готов на все, на любую авантюру или эксперимент: напомню, терять мне было нечего.
И жизнь уныло, словно по чьей-то подсказке, подбрасывала мне рецепт дешевой идеологии, ведущей к дешевому счастью: живи одним днем. Зажигай. После меня хоть потоп. Это подозрительно напоминало вариант мести. Только вот кому и за что?
Кроме того, это было скучно, ибо напоминало прежнюю жизнь. Ну, буду я жрать, пить и встречаться с девушками (сплошь красавицами, зараженными ВИЧ-инфекцией, само собой) в три раза больше, чем вчера. Будет в три раза больше счастья? Нет, будет в три раза скучнее. Мне определенно требовалось что-то другое.
Для начала я решил сходить на могилу к Пашке Кузнечику, который, были у меня подозрения, загнулся именно от СПИДа. Я проштудировал соответствующую литературку: вся симптоматика сходилась. Поговорил кое с кем из его окружения – подозрения окрепли. Не то, чтобы я решил суеверно поклониться в ножки своему будущему, с целью подленько его избежать; просто общая судьба нас как-то сблизила. Пашке, наверное, было так же паршиво, как и мне; от него, как и от меня, отвернулась Вита; а тут еще я от души врезал ему под дых.
Прости, Пашка.
Мне не понравилось, что надгробие Пашкиной могилы украшало фото жизнерадостного мордатого подростка. Это как-то снижало градус трагедии и выглядело до жути пошло. Понравилось мне, что на его могиле совершенно не было цветов: две принесенных мною пурпурных розы смотрелись сиротливо и обреченно. Меня забудут так же быстро.
Знающие люди посоветовали мне радикально впасть в буддизм. Дескать, религия для образованных, толерантных, склонных к размышлениям и романтическому диссидентству людей. Медитации удивительно врачуют душу. Просто панацея. Еще будешь благодарить Будду за то, что нарвался на СПИД. Глаза вступивших на этот путь блестели, словно обильно смазанные растительным маслом (хотелось думать, что оливковым).
Нет, лучше уж сразу в могилу. Мне надо было пробуждать сознание, а не усыплять его. Причем, следовало торопиться, если я хотел чего-то достичь.
И первое открытие на моем тернистом пути было обескураживающим: никто не знал, как следует пробуждать сознание, разум. Никто. У человечества не было культуры пробуждать сознание. Была культура развивать интеллект, была культура с помощью интеллекта запутываться в сетях веры, думая при этом, что они наконец-то обретают вожделенную свободу. Все вокруг спорили, ершились, дискутировали – но только до той грани, за которой начиналась угроза разоблачения их позиции как цитадели пустоты. Тут все интеллигентно опрокидывались в прострацию и начинали беззвучно разевать рот, как большие глубинные рыбы, которых губил избыток воздуха. Им нужна была мутная глубина; глубины в сочетании с ясностью они не выносили. Спорить с таким народом скоро превратилось в форму унижения для меня, и я быстро нашел способ не подвергать свое чувство достоинства болезненным испытаниям: я становился все более и более одиноким. И где-то даже байронически заносчивым.
Историй, которые бы подтверждали сказанное, со мной случалось множество, по нескольку раз в сутки. Вот только одна из них на тему «коварство веры».
Однажды в одной из интеллигентных, следовательно, демократически настроенных компаний, которые стали на какое-то время средой моего обитания, женщина, незамужняя, бездетная, считающая себя умной в последней инстанции, изумительно страшненькая (в то время широко было распространено заблуждение, согласно которому говорить о внешних данных умной женщины – значило глупо не замечать ее ума), завела «безумно интересный» разговор со мной, мужчиной, – то есть затеяла очередную дуэль, чтобы в очередной раз доказать себе, что все мужики глупы, как последние дуры.
– Моя близкая подруга, актриса Настенька N., приняла постриг и удалилась в монастырь, – коварно начала умная женщина.
Я молчал.
– Это подвиг. Вы не находите?
– Боюсь, что нет.
– Суметь отказаться от соблазнов – это подвиг. Разве нет?
– Я не понимаю, почему, собственно, подвигом надо считать то, что Настенька отказалась от жизни? Это всего лишь один из вариантов защиты и ухода от жизни, самый почитаемый сегодня, как и тысячу лет тому назад, но не единственный. Есть еще, например, не менее престижные: работа, кухонная борьба с догмами социализма, феминизм, альпинизм, буддизм, футбол… Много. Специально не считал. Даже тотальная забота о своем здоровье – это вариант ухода от жизни. Все это, увы, плохой способ стать хорошим человеком. Не любишь жизнь – плохой.
– Разве она не силу проявила, уйдя в монастырь? Она отказалась от всего того, без чего не могут обойтись слабые люди.
– Разве она не слабость проявила, испугавшись самой себя, своих естественных желаний, желаний зачать, выносить и воспитать детей и любить при этом мужа, что, согласитесь, непросто? Разве не слабость делать вид, что ты сильнее своей природы? Это унизительная слабость – лицемерие. И дважды унизительно – выдавать это за силу.
– По-вашему, и преподобная Евфросинья Полоцкая такая же слабая?
Этот аргумент она выдвинула весьма дипломатично: положила передо мной на стол ядерный чемоданчик. Социальный миф, проверенный временем. Дескать, давайте, отважный мужчина, сверим позиции. После этого аргумента я должен был стать шелковым и сговорчивым.
– По-моему бесподобная Евфросинья Полоцкая обязана своей славе невежеству людей. Что за доблесть сбежать в монастырь девчонкой, не познавшей жизни, и потом всю жизнь учить тому, что познание и любовь к жизни суть величайшие грехи?
– Вы переходите на личности и символы.
– Виноват, этот вы на них перешли. Вы мне лучше вот что скажите: самоубийство, то бишь радикальный уход ото всех и всяческих соблазнов, тоже, по-вашему, проявление силы?
– Отчасти, несомненно, да. Умерщвление плоти в разумных пределах – это хорошо. Крайность, такая, как самоубийство, – плохо.
– Я вам аплодирую. Вы последовательный бессознательный некрофил, каким является всякая сознательная феминистка. Но давайте заглянем дальше, давайте развернем ваш сценарий. Ели приветствовать уход от жизни и, отчасти, самоубийство, если жизнь так плоха, почему бы не приветствовать, отчасти, не только самоубийство, но и убийство, и самих убийц? Это ведь тоже вариант ухода от жизни, самый крайний и радикальный. В таком случае не Евфросинью Полоцкую, а Адольфа Гитлера хочется считать первым феминистом. Лавры, как всегда, мужчинам, извините.
– Вы подонок! Вот таких, как вы, и убить не грех!
– Безусловно, да. Именно, как вы изволили выразиться, убить. Укокошить – и баста. Брависсимо. Потому что я люблю жизнь и позволяю себе все, что любите вы, но не позволяете себе этого позволить. В силу убеждений. Веры. Плевать я хотел на веру. На любую веру!
В этот момент раздались аплодисменты – и в комнату вошла Вера.
Бурно аплодировал, будто молодежь на галерке, некто Сеня Горб, широко известный в узких кругах шут с философской чудинкой. Он был весел и легкомысленно остроумен, словно больной раком, не желающий замечать того, что осложняет «экзистенциальное существование». Возможно, он и был болен раком в последней стадии, которая случайно затянулась. Его едкие, безадресно изрекаемые истины никто не принимал всерьез в силу их какой-то всеобщей оппозиционности; все-таки в порядочном обществе, сплошь состоявшем из свободных художников – музыкантов, работавших сторожами, гениальных поэтов-грузчиков и невероятно одаренных интеллектуалов, вообще нигде не работавших, так, подрабатывавших там-сям, – приветствовалось свободомыслие с либеральным уклоном, остальную ересь терпели из уважения к свободомыслию первого сорта. И все же Сеню снисходительно принимали – пусть как единичное, но, тем не менее, материальное доказательство торжества плюрализма в порядочном обществе. К тому же Сеня считал Владимира Ленина слабым философом. Правда, Марка Шагала при этом считал бездарем, и никак не мог понять, почему сверхпопулярный рычащий Высоцкий, раскатывающий на «Мерседесе» по Европам, считается гонимым и обделенным. Сплошные неувязочки.
Моя история, которую нещадно перевирали, приписывая мне то любовницу-француженку, то любовника-поляка (и то, и другое считалось крайне лестным), наделала много шума, и я был окружен ореолом мученика, пострадавшего от гнета тоталитарного режима. Хорошим тоном было не шарахаться от меня, как это было принято в «совковом» обществе, а, напротив, горячо пожимать мне руку (плотный контакт с обреченной плотью изгоя – вот она, солидарность интеллигентов), внимательно вглядываясь в лицо с целью обнаружить на нем знаки начинающегося разложения. Отношение ко мне служило тестом на гуманность.
На сей раз Сеня, с которым мы вместе работали кочегарами («пыльная, но чистая работа», по его словам), был краток:
– Глобальная демократия породила феминизм – вот им же она и накроется. Мягким, женским.
Окружающие воспитанно сделали вид, что не расслышали бормотания юродивого.
Я же про себя зааплодировал, во-первых, походке Веры, а во-вторых, Сениной сентенции. Кажется, впервые, увидев женщину, я пожалел, что СПИД накладывает на мои отношения с прекрасным полом известные ограничения, продиктованные нравственными соображениями.
– Сеня, Шагал летит над Витебском в сторону черного квадрата или от него? – шепотом спросил я у Горба, благодаря его за смелость мысли и записываясь к нему в сообщники.
– Ты мыслишь в правильном направлении, – ответил Сеня. – В черную дыру, практически – жопу, которую эстетам угодно называть квадратом.
– Ведь он летит под музыку «Beatles», я правильно понимаю? We all live in the yellow submarine, не так ли?
– Истинно так. Эти четыре черных омарихуаненных кота, которым одновременно наступили на яйца (отсюда и вокал несравненный), славно лабают под Шагала.
– А ведь те же самые люди, которые восхищаются сказкой о голом короле, рукоплещут «Черному квадрату», пританцовывая под Битлов.
Второй раз за вечер я удостоился аплодисментов от Сени; такого признания от разборчивого кочегара-философа, как он сам мне поведал, заслужил только Шопенгауэр, которого я, признаться, откровенно недолюбливал.
Я вернулся домой и, вдохновленный глазами Веры, принялся писать, воплощать еще самому себе до конца неясный замысел трактата.
Заглавие мне понравилось сразу.
И разбег я взял нешуточный.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)1Для разговора о Ф.М. Достоевском, одном из самых ярких и влиятельных русских писателей, необходимо создать теоретический контекст. Необходима культурологическая теория, целостно интерпретирующая личность и культуру. Я нахожусь в процессе создания такой теории; собственно, эта работа и представляет собой попытку сотворения того самого «теоретического контекста».
Художественный материал, подлежащий осмыслению, поражает своей броской оригинальностью. Так называемая «достоевщина» (употребляю это расхожее, надо признать, меткое определение не как ярлык с негативно окрашенной семантикой, а как совокупность качеств и свойств, присущих моделям писателя, как обозначение характерно достоевских идей и переживаний; отношение же к достоевщине – не личное наше пристрастие (личное пристрастие – это личные проблемы), а отношение, вытекающее из предлагаемого методологического подхода – мы будем определять не ярлыками, а всей логикой работы) оказала столь заметное воздействие на всю мировую культуру, что от «проклятой достоевщины» невозможно отмахнуться, как это позволили себе, скажем, корифеи эпитетов и метафор Бунин и Набоков. Царственный жест «нравится – не нравится» – это скорая расправа тех, кто не даёт себе труда подумать, кто не в силах преодолеть смутную и порывистую стихию эмоционального отношения, ту же достоевщину. Познавать художника способом художественным же, возможно, и эффектно, не исключено, что порой любопытно, но всегда глупо. Такое «познание» в лучшем случае сгодится как материал для познания «познающего», как, например, речь Достоевского о Пушкине, гораздо более говорящая о субъекте познания, нежели о несчастном объекте.
Механизм «достоевщины», при всей его антропологической «навороченности», достаточно прост в своих корнях и истоках. По существу, писатель специализировался на рассогласовании «отражений реальности» с реальностью как таковой, происходящем на поле сугубо психическом. Он пожертвовал духовно-физической гармонией, и даже простой нормальностью человека, дисгармонично выпятив психический компонент личности. Человек Достоевского – это человек переживающий, причём переживающий интенсивно, болезненно, замкнувшись параноидально на пунктике, которому он безо всяких на то объективных оснований склонен придавать чрезвычайное значение. Его героев не интересуют интриги социальных связей, они не получают удовольствия ни от еды, ни от нормальных душевных отношений, ни от любви или эротики, ни от ответственного мышления, они равнодушны к природе и людям – их волнуют и поглощают исключительно утончённые, зашкаливающие за грань нормы психические взлёты и падения, переживания ради переживания. Нездоровую крайность, свойственную, отчасти, всем здоровым людям, Достоевский превратил в свою золотую жилу.
Да, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы с иррациональным элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинки и переживания поражают калейдоскопической избыточностью и вместе с тем однообразием «базовых моделей», которые лихорадочно расцвечиваются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности обескураживающе очевидна. Содержание достоевщины – не реальность, а её психически-виртуальное замещение, поданное с особым, нервным градусом. Импульс надуманных переживаний выдуманных героев – не от реальности, а от первичных впечатлений по поводу реальности; переживания по поводу переживаний, фантомы по поводу фантомов – вот извилистый путь духовных исканий «философов» Достоевского.
Реальность достаточно проста, груба и пошла, она не предрасполагает к изощрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, и даже поощряет здоровую идеализацию, которая приспосабливает к реальности (вспомним в этой связи тех же Пушкина и Л. Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – вторичной – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения. Повышенная психичность влечёт за собой концептуальную бессодержательность такого искусства. Оно самим механизмом творчества запрограммировано на легковесность, на абсолютизацию эстетизма, ибо когда нечего выражать, содержанием выражения становится само выражение.
Вот почему реализм (то есть искусство, моделирование реальности, ориентированное, вместе с тем, на познавательное отражение объективной действительности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, опирающегося, отчасти, и на противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле), с точки зрения излагаемой теории художественного творчества, представляет собой чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую из себя же, а не из реальности. Нет ничего удивительного в том, что реализм Достоевского стал предтечей вовсе «не реалистического» модернизма и постмодернизма. Внимание, уделяемое Достоевским болезненным психическим ощущениям и переживаниям, стало основой, на которой отрицается реальность модернизмом. А другой основы в природе не существует.
Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму).
Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться?
Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это оборотная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности.
Заслуга Достоевского в том, что он подчеркнул психичность человека, его бессознательную душевность, а в этой душевности – непредсказуемость. Но он же и противопоставил эту истерическую душевность – нормальности, абсолютизировав первую и поставив под сомнение вторую. Герои Достоевского, если уж быть точным, по складу личности, по типу отношений к действительности – фанатики и психопаты. В таком случае совершенно естественно, что отношение к разуму, к сознанию рефлектирующему предопределено было самой однобокой природой персонажей, их отчуждённостью от мира, их вырванностью из контекста социального и природного.
Однако отдадим должное писателю: его герои не просто избегали разума или настороженно относились к нему; Достоевский отчётливо осознавал, что такого рода персонажи в сознании должны видеть своего смертельного врага. А такое противопоставление – уже неплохая сцепка с реальностью. Не было бы сосредоточенности на магистральном для культуры, особенно новейшей, конфликте между психикой и сознанием (отражением запутанных отношений приспособления и познания) – не явилось бы и великого пятикнижия Достоевского (имеются в виду романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»), представляющего собой вариации на центральную и главную тему культуры: единства и борьбы психики и сознания.
Психика чувствует, чего ей не хватает, она тянется к сознанию, ощущая при этом свою ущербность и неполноценность и не переставая тянуться к началу противоположному, так как это единственный, что ни говори, способ самопознания (пусть и ограниченный рамками живительного процесса психо– и логотерапии). Иначе зачем же писать столько «идеологических» романов во славу «бессознательного» и во посрамление разума, бесконечно воспроизводя одни и те же типажи святых-«идиотов» и преступных умствующих еретиков-раскольников?
В свете сознания персонажи Достоевского начинают смотреться худосочными марионетками, прилежно иллюстрирующими беспомощность мысли и всесилие капризных вулканов бессознательного. Поразительная бедность мысли автора идеологических романов впечатляет даже не столько сама по себе, сколько вследствие того, что это скудомыслие было воспринято мировой интеллектуальной общественностью как философское откровение. Что тут скажешь?
Общественность читает роман, роман высвечивает гуманитарную невежественность общественности.
Крикливая иррациональность панически открещивается от цепких щупалец разума – вот всё «содержание» романов психически ангажированного гения. Весомостью аргументов служит не контрпродукция ума (не забудем: коварные концепции и смыслы – это мишень), а интенсивность, противоречивость и полная неподконтрольность интеллекту переживаний и, шире, психических комплексов. Фактура переживаний – это и есть главный иррациональный аргумент. Вот почему не следует усматривать в данной работе намёков на личное нездоровье творца как на главную причину странного его мировидения.
Однако не будем впадать в противоположную крайность: так ведь можно «отмахнуться» от доброй половины мировой литературной классики, поставив под сомнение её содержательность. Не будем требовать от литературы более того, что она может дать; с другой стороны, литература, претендующая на статус сверхлитературы (иначе сказать, умной, мудрой литературы), должна быть подвергнута анализу критическому. И главное, что выявляет такой анализ, заключается в следующем: вновь злейшим врагом психически-моделирующего восприятия было объявлено ориентированное на объективность сознание.
Подчеркнём, что пока мы ограничились принципиальной оценкой «достоевщины», не распространяя её вместе с тем как окончательный и исчерпывающий философско-эстетический вердикт на творчество писателя в целом и тем более на какое-либо конкретное художественное произведение, которое всегда в чём-то преодолевает бессознательные установки самого автора.
Какой из романов избрать для анализа?
Мы выберем не тот, который максимально полно репрезентирует интересующую нас проблематику (это было бы подгонкой под концепцию, то есть тем самым насилием над реальностью, что так характерно для Достоевского, представляющего мышление моделирующее, художественно– и религиозно-идеологическое, и что совершенно неприемлемо для сознания научного, ибо насилие над реальностью несовместимо с деятельностью «чистого сознания», есть приговор ему, другими словами – превращение его в свой антипод, вариант сознания идеологического), а наиболее совершенный в художественном отношении, по нашему мнению. Иное дело, что этот роман как никакой другой оказывается соответствующим нашей концепции, великолепно «подтверждает» её и одновременно даёт ей содержание. Но это, повторим, уже другое дело.
Мы имеем в виду «Преступление и наказание», конечно, первый из романов, открывающий пятикнижие.
Как же долго, неприлично долго не замечалась главная тема и проблема, которой подчинено в романе (и в творчестве Достоевского в целом) буквально всё. И пресловутая острая социальность романа, и его прямо-таки иезуитская идеологичность, и неслыханный психологизм, и сама хвалёная религиозная философия Достоевского, и оригинальная поэтика – всё, всё это следствия из пункта, скрестившего причины причин: борьба с разумом не на жизнь, а на смерть. Без компромиссов. Или – или. Академическая тема «психика и сознание», поставленная ребром, неизбежно тянет за собой кровь и смерть.
Так было в «Евгении Онегине».
Так было в «Войне и мире», в «Пиковой даме».
Так будет и в «Преступлении и наказании».
* * *На следующий день, думая о Вере вперемешку с Достоевским, я отправился за результатами анализа.
Относился я к этой судьбоносной процедуре как к пустой формальности, не секунды не сомневаясь в положительном (то есть крайне отрицательном для себя) результате. Я-то знал, что мы вытворяли с Майкой; после этого надеяться на милость судьбы было наивно. Но и жалеть о времени, с таким толком проведенном с Майкой, было глупо. Преступление без наказания теряет смысл; если уж наказания все равно не избежать, то хотелось бы сначала пережить все удовольствия преступления.
Упитанная медсестра встретила меня показательно недружелюбно, не подпустив ближе, чем на три метра.
– Сдадите повторный анализ крови, – брезгливо приказала она.
– Когда?
– Сейчас.
– А первый анализ вас чем-то не устраивает?
– Первый анализ ошибочен: у вас ничего не обнаружили.
– Быть того не может, – пробормотал я, покрываясь алым цветом и не в силах унять дрожь ликования, потрясшую меня до мозга костей.
– Вот-вот, – сказала медсестра. – И я о том же. Закатывайте рукав.
Нацедив полпробирки темно-вишневой крови, она молча отправилась куда-то вглубь лаборатории.
– Когда же я буду знать результаты?
Ответом мне было слабое издевательское звяканье каких-то пинцетиков о какие-то колбочки. Мне давали понять, что пора привыкать к тому, что становишься человеком второго сорта.
– Когда я буду знать эти чертовы результаты! – взревел я.
Из-за ширмы вышел мужчина в белом халате, но в брюках и начищенной обуви, которые выдавали в нем человека, далекого от профессиональной медицины. Вот почему медсестра вела себя так вызывающе: у нее было прикрытие.