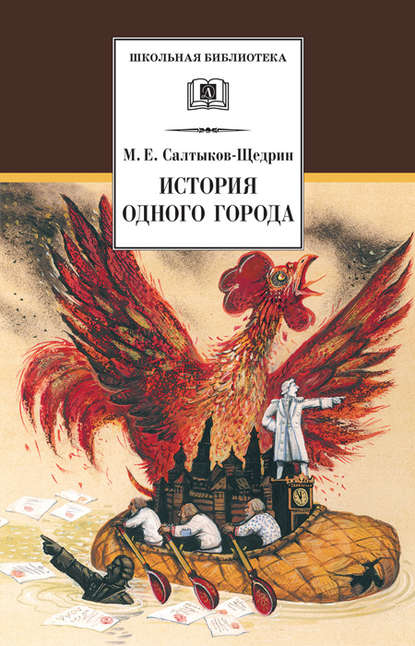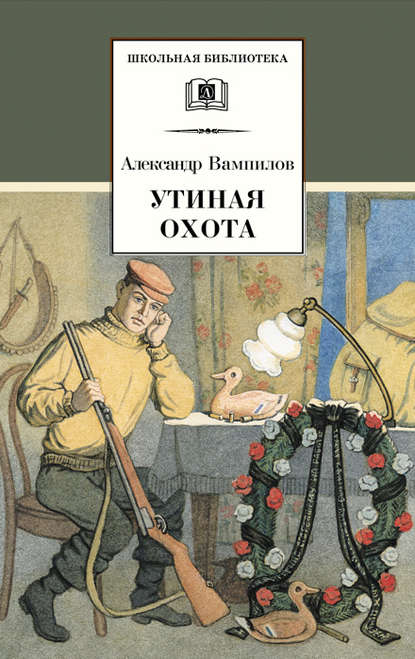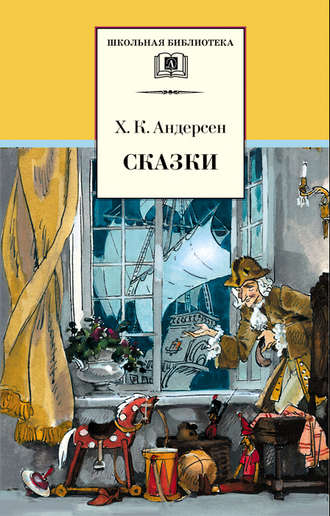
Полная версия
Сказки

Ханс Кристиан Андерсен
Сказки

Жизнь в сказке [1]
Поговорим о Хансе Кристиане Андерсене; не только о некоторых его сказках, но и о жизни его, из которой сказки родились. Ведь сама книга впервые явилась мне в воображении много лет назад как мысль об Андерсене – прежде всего о нем.
Тогда же я достал его портрет и с тех пор постоянно ощущаю взгляд его маленьких, таких тревожных глаз, пристально глядящих с печального длинноносого лица.
В жизни Андерсена было много горького. Даже когда его полюбили дети и взрослые во всем мире, в том числе такие взрослые, как Чарльз Диккенс, Вольфганг Гёте, братья Гримм, Генрих Гейне, Виктор Гюго, на родине его очень многие говорили, что пишет он несерьезное – сказочки, да и сами эти сказочки пишет не так, а надо писать вот как.
В автобиографии, которую Андерсен назвал «Сказка моей жизни», он вспоминает, как некий кандидат богословия, автор водевилей и критических статей, решил «однажды в моем присутствии в знакомом доме разобрать одно из моих стихотворений, что называется, по косточкам; когда он кончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивающаяся к такой беспощадной критике, взяла книжку и сказала: „Вот есть еще одно словечко – „и“! Его вы не бранили“. Кандидат покраснел и поцеловал девочку».
О первом выпуске сказок Андерсена датский литературный журнал «Деннора» писал: «Сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ручаться за их полную безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, приезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее…»
Когда была напечатана «Принцесса на горошине», тот же журнал заметил, что она «лишена соли».
Читая первые отзывы на сказки Андерсена и сравнивая их со статьями, которыми были встречены сказки Пушкина и Ершова, нельзя не подумать, что если сказочники в мире так прекрасно разны, то «не сказочники» – а это, должно быть, особая людская разновидность – очень одинаковы.
Впрочем, тревогу и печаль в глазах Андерсена вряд ли можно объяснить лишь собственными его скорбями. В той же «Сказке моей жизни» он писал: «Мы посетили Помпею, Геркуланум и греческие храмы в Пестуме. Здесь я увидел слепую нищую – почти девочку еще, одетую в лохмотья, но дивную красавицу».
Прочитаем сказку «Девочка со спичками», и эта девочка возникнет перед нами – ненадолго, чтобы в ту же ночь погибнуть. «В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать – вот какие они были большие, и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят».
Мир отражался в скорбных глазах Андерсена.
И тут вспоминается его детство, в котором главные истоки творчества.
Он родился в маленьком датском городке Оденсе, в бедной семье, рано лишился отца, завербовавшегося в солдаты, чтобы избавить семью от нищеты, и не вернувшегося.
Солдату суждено было вернуться только в сказках сына – веселым и неунывающим.
Горе утрат и разлук, преследовавших Андерсена, смягчалось, когда он призывал на помощь сказочные видения.
Кто-то из друзей сказал, что в обычной жизни он чувствовал себя как в театре, все время ожидая чудес, огорчаясь и досадуя, если чудес не случалось, а в театре ему казалось, что перед ним реальная жизнь; подобно Дон Кихоту, он не ведал разницы между мечом картонным, из театрального реквизита, и стальным.
В детстве он часами просиживал на берегу реки у кротовой норы, и когда хозяин выглядывал из своего жилища, ему ужасно хотелось расспросить его, что делается на другой стороне земли, куда, несомненно, ведут подземные ходы. Рядом с домом, где жили Андерсены, свил себе гнездо аист; веснами мальчик первым встречал мудрую птицу после возвращения ее из дальних стран. Больше всего тогда он желал бы выучить язык птиц и зверей. Нам, читавшим его сказки, известно, что эта его мечта исполнилась.
И больше всего на свете ему хотелось стать актером, работать, а правильнее было бы сказать – жить в театре. Тут невольно вспоминается, что и у Аксакова, и у Пушкина увлечение театром предшествовало их приходу в поэзию, а потом осталось навсегда. Видимо, если ремесло сказочника соприкасается с учительством, то так же неразрывно оно и с игрой, особенно с игрой в театр. В основе всех этих трех искусств, как кажется, одно – сила воображения. Вообразить судьбу своего героя; вообразить чувства ребенка, которого ты учишь, и будущее его, во многом зависящее от твоего слова; слиться в воображении с тем, чью судьбу тебе суждено представить на сцене.
Мать Ханса Кристиана, видевшая у себя в Оденсе только канатных плясунов и странствующих актеров-бедолаг, сказала сыну, когда тот открыл ей свое окончательное решение стать актером:
– Вот когда попробуешь колотушек. Заставят тебя голодать, чтобы ты был полегче, станут тебя пичкать деревянным маслом, чтобы ты был гибче! Нет, ты пойдешь в портные. Посмотри только, как живется портному Стегману! Не житье, а масленица!
Но уже ничто не могло остановить его. Он должен был писать для театра, да так, чтобы самому исполнять главную роль. Мальчиком он сочинил пьесу «Карас и Эльвира» – об отшельнике и немыслимой красавице. Эльвира выражалась исключительно стихами, нежными, романтическими и отменно длинными, отшельник отвечал ей столь же пространно отрывками из священных книг.
Выслушав пьесу, соседка, подавив легкий вздох, сказала:
– Лучше бы не Карас и Эльвира, а карась и корюшка…
Критику эту он запомнил, а может быть даже, она была одной из немногих, оказавших влияние на его творчество.
«Я могу назвать только трех писателей, которые в юности как бы перешли в мою плоть и кровь, – это Вальтер Скотт, Гофман и Гейне», – говорил Андерсен.
Потом он прибавил к этому списку еще и Шекспира.
В детских произведениях он подражал своим кумирам, но всякий раз пытался внести в сочинение нечто свое.
«У Шекспира короли и принцессы говорили точно так же, как обыкновенные люди, но мне это показалось не совсем верным, – вспоминал Андерсен. – Очевидцы, видевшие короля в Оденсе, утверждали, что он „изъяснялся по-иностранному“. Я достал датско-немецко-французско-английский словарь, и мой Король заговорил так: „Гутен морген, мон пер. Хорошо ли вы шлеепинг?“»
Уже перейдя от мальчишеских опытов к серьезной литературе, Андерсен не сразу нашел единственно свой путь, но и тогда, в юности, в его творчестве чувствовалось нечто такое светлое – «чистый тон», сказал бы другой замечательный северный писатель, Халлдор Лакснесс, – что вызывало у лучших людей ответную волну нежности.
В 1823 году датский ученый и редактор «Восточно-Зееландских ведомостей» пастор Бастгольм, прочитав одно из сочинений восемнадцатилетнего Андерсена, писал ему: «Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам не у кого было учиться, и берегите в себе благородство, и высоту помыслов, и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия».
В сказках он стал таким, «как будто до него не было ни одного поэта».
Он очень медленно взрослел и с годами не отдалялся от того, чем живет детство. В шестнадцать лет он так же самозабвенно играл в куклы – в куклы-артисты, как и шестилетним ребенком.
«Ежедневно, – вспоминал он, – я шил куклам новые наряды, а чтобы добыть для этого пестрых тряпок, ходил по магазинам и выпрашивал образчики материй и шелковых лент. Фантазия моя была до того поглощена кукольными нарядами, что я часто останавливался на улице и рассматривал богатых барынь, разряженных в шелк и бархат, представляя себе, сколько королевских мантий, шлейфов и рыцарских костюмов мог бы выкроить из их одежд. Мысленно я уже видел эти наряды у себя под ножницами».
Купчихи и чиновницы Копенгагена ловили на себе восторженный взгляд долговязого оборванца, столбенеющего при их виде, вряд ли догадываясь об истинной причине этого восторга.
Он сшил пуховую перину для одной тоненькой и грациозной куколки и уложил ее спать. Лицо у куколки было красивое, но кисточка дрогнула в руках Ханса Кристиана, и уголки маленького красного рта образовали обиженную гримасу. Ночью он открыл глаза, в лунном свете досадливое выражение лица его любимицы очаровало и чуть рассмешило его. Он снова уснул с ощущением непонятной заполненности, вдруг счастливо посещавшей его иногда – каждый раз без предупреждения – радости, не имеющей названия, скрывающей до времени лицо под полумаской, как фея на балу. Утром кукла сказала капризным голоском:
– Я почти не сомкнула глаз! Бог знает, что у меня за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!
Принцесса на горошине родилась в то утро, но прошли годы, пока Андерсен записал ее историю.
Однажды весной в форточку залетела ласточка. Она билась о стекло, не находя выхода, и вдруг замерла на столе около самой маленькой куклы, которую так и звали – Малышка. Он открыл окно, выпустил птицу и проследил за ее полетом. Странно, ласточки уже не было в каморке, когда юный Андерсен явственно услышал ее щебет:
– Кви-кви! Кви-кви! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь…
Судьба ласточки и Малышки связалась неразрывно; и тогда возникла Дюймовочка.
Андерсен рассказал историю жизни Штопальной иглы, Репейника, Жабы, Соловья и Розы, всех Дней недели. Он придумал Великого Морского Змея – это трансатлантический кабель, протянувшийся по дну океана: «гудящий мыслями всего человечества, говорящий на всех языках мира и все же безмолвствующий, мудрый змей, вестник добра и зла, чудо из чудес…»; он написал сказки Бутылочного горлышка, Ночного колпака, Пера и Чернильницы, Дворового петуха и Петуха флюгерного, Навозного жука, Ключа от ворот, Подснежника, Воротничка, даже Тетушки зубной боли…
Для него не существовало деления на высокое и низкое, лишенное поэзии; в сказках его сточная канава уж конечно не менее достойна удивления, чем дворец китайского императора.
Андерсен много путешествовал – это всегда было одной из самых больших радостей для него. В странствиях он подружился с Гёте, Диккенсом, Виктором Гюго, и с людьми не столь знаменитыми, и со множеством детей; имя его открывало сердца.
Однажды в Париже на большом званом вечере Андерсена познакомили с кумиром его молодости – Генрихом Гейне. Оба очень обрадовались встрече, но разговор наладился не сразу; может быть, сказалась разница в возрасте – Гейне был на восемь лет старше. Но вскоре безразличный светский разговор сам собой перешел в доверительную беседу об одном из тех тайных предметов, который они так любили. К ним приближались красивые женщины, писатели, артисты, художники, но, еще издали услышав «эльфы, феи, гномы», спешили отойти, чтоб не помешать великим знатокам сказочных наук.
Гейне спросил Андерсена: не потому ли домовые так любят его страну, что там умеют готовить необыкновенно вкусную сладкую гречневую кашу?
– Нет, – ответил Андерсен, – ниссы, так у нас называют домовых, всего охотнее едят размазню с маслом. – Еще он сказал: – Если нисс поселится в доме – а делает это он, только получив согласие хозяина, – то уж остается навсегда. Иногда выходит накладно: ниссы любят плотно поесть, да еще вмешиваются не в свои дела. Одному бедному ютландцу так наскучило соседство с ниссом, что он решил бросить свой дом; нагрузил пожитки на телегу и поехал в соседнюю деревню. А по дороге, обернувшись, увидел головку домового в красной шапочке; тот, выглянув из пустого бочонка, дружески закричал ему: «Перебираемся!»
В свою очередь Гейне вспомнил занятную историю о немецком домовом по имени Гюдекен, то есть Шляпчонка. Хозяин дома, где жил Шляпчонка, часто надолго уезжал: такая была у него работа. Бывало, только он за порог, жена зазывает соседей, кормит и поит, так что в кладовке к возвращению хозяина остаются одни лишь крюки, на которых прежде висели окорока и колбасы, а в погребе – пустые бочонки. В довершение беды кое-кто из соседей оставался еще и ночевать. Вот хозяин и попросил Шляпчонку поберечь дом в его отсутствие. «Ладно!» – пообещал тот. Лишь только сосед, плотно поужинав и выпив, устроился в хозяйской постели, Шляпчонка стал трясти ее, да так, что незваный гость несколько раз крепко ударился о потолок, а потом и совсем вылетел из дома – через дверь, через окно, может быть, даже через печную трубу? Когда это повторилось и на другой день, и на третий, и на десятый, все стали обходить дом стороной. В день возвращения хозяина Шляпчонка встретил его за околицей и попросил: «Впредь никогда не поручай мне такую работу. Я охотнее стерег бы свиней во всей Саксонии, чем твою благоверную!»
Увлеченные разговором, Поэт и Сказочник и не заметили, как гости разошлись, как погасли огни. Часы пробили двенадцать раз, вежливо напоминая, что уже наступила ночь. Только тогда они опомнились и пошли к выходу.
Из путешествий, соскучившись по работе, Андерсен неизменно возвращался в столицу Дании – в свой любимый Копенгаген, где на самой большой площади Конгенс Нитров, недалеко от Королевского театра, с которым было связано столько надежд, разочарований, но и радостей тоже, находилась его квартира: маленькие комнаты с окнами, выходившими на площадь и похожими на витрины.
Когда окна загорались и показывалась знакомая длинная фигура, копенгагенцы, проходя мимо, замедляли шаги, а многие из них бессознательно улыбались.
Но однажды в такой торжественный день возвращения он – в ту пору уже старик и знаменитый писатель – услышал тяжелые уверенные шаги двух важных господ в богатых шубах и громкий голос одного из них:
– Наш знаменитый за границей орангутанг наконец-то, ха-ха, пожаловал домой!
Он отступил в глубь комнаты и прижался к стене, будто так можно сберечься от удара, уже нанесенного.
«Самым важным свойством таланта Андерсена была причудливая фантазия, придававшая его поэтическим произведениям свежесть и прелесть, – вспоминал один из близких друзей его, – но с фантазией бывает то же, что с людьми: они редко дают что-либо даром. Сколько должен был он вынести волнений и страхов, когда фантазия врывалась к нему без зова и вела, куда ей хотелось. Я видел его вне себя от волнения и страха из-за того только, что друг его опаздывал на полчаса против условленного срока. И чего-чего только не перенес он за эти полчаса! Сколько представлялось ему различных способов смерти, пока он не остановился поневоле на самом ужаснейшем. Он ясно видел, как привезли домой тело убитого друга, уже написал родным и друзьям на родину, возможно осторожнее подготовив их к страшной вести; он, наконец, уже оставил это страшное место, бежал от кровавого зрелища смерти, но оно все преследовало его; больше не было сил, он чувствовал, что захворает, пожалуй – умрет… Он чувствовал все это, когда дверь отворилась, и друг вошел, здоровый и улыбающийся».
Беспокойство о близких наполняло его; «далеких» среди людей для него не было.
Охваченный этой вечной тревогой, он поднимался ночью и шел по гулкой Конгенс Нитров, мимо Королевского театра с погашенными огнями, где ветер шелестел старыми афишами, перечитывая и перечитывая их, по спящим пустым улицам. Кольцо из зеленых валов окружало старый город, и выйти из него можно было в ту пору только через ворота, запиравшиеся на ночь. Ключ от ворот каждый вечер доставлялся в замок Амалиенборг королю Дании Фредерику VI.
Андерсен открывал городские ворота своим – невидимым – ключом, и они бесшумно распахивались перед Принцессой и Свинопасом, Соловьем и Розой, феями и Девочкой со спичками, эльфами и Навозным жуком. Последней приползала улитка. Та самая, о которой Андерсен говорил: «Она была богата внутренним содержанием – она содержала самое себя».
Улица у городских ворот, несомненно, была бы запружена. Считается, что в «Человеческой комедии» Бальзака выведено больше действующих лиц, чем у любого другого писателя; но мир Андерсена еще населеннее. Улица была бы запружена, хотя свита Андерсена занимала не только мостовую: аисты и другие птицы парили над головой, черви и кроты прокладывали подземные ходы.
Андерсен усаживал на плечо маленького Оле-Лукойе, того самого, который навевает людям сны, и шел вперед. Тут возникает неотложная необходимость разглядеть Андерсена в темноте ночи; поэтому я решаюсь прибегнуть к помощи Вильяма Блока, современника и друга Андерсена, который в описаниях неизменно предпочитал восторженности точность: «Нельзя сказать, чтобы природа была особенно милостива к Андерсену по части внешности, – вспоминал Блок. – Фигура его всегда имела в себе что-то странное, что-то неловкое, неустойчивое, вызывающее и улыбку, и симпатию. Как бывают мальчики, с детских лет отличающиеся какой-то старческой степенностью, невольно внушающею к ним некоторое уважение, так бывают и взрослые люди, которые никак не могут избавиться от чего-то чисто детского в лице или в фигуре. Андерсен представлял удивительную смесь того и другого рода людей. Не знаю, каков он был ребенком, но я уверен, что его резко очерченное лицо с маленькими глазами и крупным носом и в детстве не представляло свойственных ребенку мягких и округленных форм, и я вряд ли ошибаюсь, предполагая, что люди, видевшие его в колыбели, так же удивлялись старчески мудрому выражению лица ребенка, как впоследствии – ребяческому отпечатку, лежащему на всей его фигуре взрослого человека. Он был высок, худощав и крайне оригинален в осанке и движениях. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонки; кисти рук широки, а ступни таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не случалось опасаться, чтобы кто-нибудь подменил ему калоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед. Уходя от него, человек скорее и лучше всего запоминал его нос, между тем как светлые и крайне маленькие глаза его, скрытые в своих впадинах за большими веками, не оставляли по себе впечатления. Выражение глаз было ласковое, добродушное, но в них не было той захватывающей игры света и теней, той жизни и выразительности, благодаря которым глаза становятся зеркалом души. Зато очень красив был его высокий, открытый лоб и необычайно тонко очерченные губы».
Может быть, думаю я, перечитывая это описание, глаза Андерсена были устремлены как бы внутрь, и поэтому не каждому дано было разглядеть их тайное, такое «не внешнее» сияние.
Андерсен шел по старому спящему Копенгагену, от дома к дому, из переулка в переулок. Очень, очень не спеша и неслышно. Остановился он и у дома господина в богатой шубе, своего давнего обидчика – ведь там тоже жили дети… Двери были заперты на десять засовов, окна закрыты ставнями.
Андерсен что-то шепнул Оле-Лукойе. Оле, кивнув, соскочил с его плеча, прошел сквозь обитые железом, запертые двери, поднялся по темной лестнице, так что не скрипнула ни одна ступенька, и очутился в маленькой комнате, где спал мальчик, внук хозяина дома. Было темно и душно, ах как темно и душно было здесь, и мальчик стонал в неспокойном, тяжелом сне.
Но Оле-Лукойе дунул, и темнота начала рассеиваться – из черной она стала чуть голубой, ветер, пахнущий цветами и травами, влетел в окно, откуда-то сверху спустились сны, как птицы, после перелета опускающиеся на гладь озера, и заскользили по прозрачному, просиневшему пространству ночи над изголовьем кровати.
Оле-Лукойе прилег рядом с улыбнувшимся во сне мальчиком – он тоже больше всего на свете любил смотреть такие спокойные и веселые сны – и подумал:
«Вот уж удивится и обозлится этот важный господин, когда в его вороньем гнезде вырастет не вороненок, а славный человеческий детеныш».
… Волшебники приходят к людям из разных стран, из разных, даже самых отдаленных времен. Они идут, идут, представляясь нам рассеянными на огромном пространстве огнями, идут, чтобы помочь нам не заблудиться на долгом нашем пути, о котором недаром сказано: «жизнь прожить – не поле перейти».
А. Шаров
Сказки
Гадкий утенок

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски – он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.
Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» – послышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.
– Живо! Живо! – закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им – зеленый свет полезен для глаз.
– Как мир велик! – сказали утята.
Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.
– А вы думаете, что тут и весь мир? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я от роду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? – И она встала. – Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.
И она уселась опять.
– Ну, как дела? – заглянула к ней старая утка.
– Да вот, еще одно яйцо остается! – сказала молодая утка. – Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!
– Постой-ка, я взгляну на яйцо! сказала старая утка. – Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!
– Посижу уж еще! – сказала молодая утка. – Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.
– Как угодно! – сказала старая утка и ушла.
Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» – и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.
– Ужасно велик! – сказала она. – И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!
На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! – и утка очутилась в воде.
– За мной! Живо! – позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.
Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.
– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество – мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!
Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.
– Вот как идут дела на белом свете! – сказала утка и облизнула язычком клюв, – ей тоже хотелось отведать угриной головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – сказала она утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!
Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили: