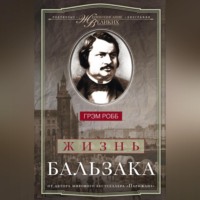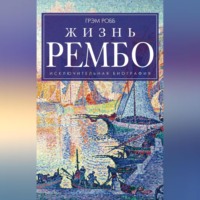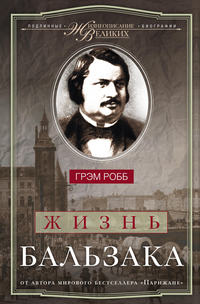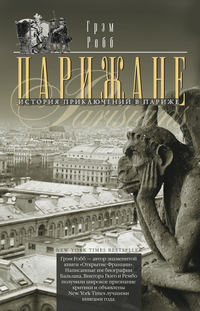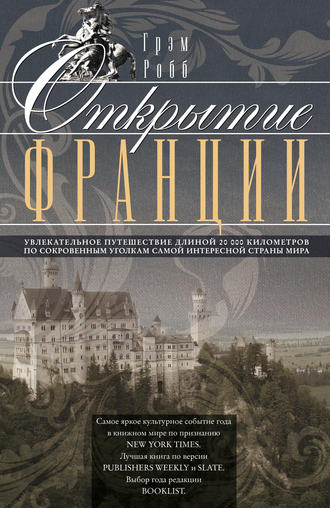
Полная версия
Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира
Та же самая боязнь простора при заселении открытых пространств наблюдалась по всей Франции. В сравнительно недавнее время, в 1886 году, более четырех пятых ее жителей обозначено как «почти статичные» (то есть живущие в тех же департаментах, где родились). Более трех пятых населения составляли люди, оставшиеся в своей родной коммуне. Но даже те, кто переселился в другой департамент, не обязательно покинули родную группу хуторов: просто соседний хутор мог находиться по другую сторону административной границы, в соседнем департаменте.
Некоторые общины из-за малочисленности или местной вражды были вынуждены искать женихов и невест дальше от своих домов, но вряд ли они отправлялись для этого слишком далеко. В романе Жорж Санд «Чертова лужа» овдовевший пахарь приходит в ужас при мысли о том, чтобы найти себе новую жену за 3 лиги (8 миль) от своего дома, «в новом краю (pays)». В крайнем случае кто-то из преследуемого народа каго, который жил в разбросанных далеко одна от другой маленьких деревушках, мог найти себе мужа или жену на расстоянии дня ходьбы от своего дома, но это случалось очень редко. Данные о 679 парах супругов-каго за период с 1700 по 1759 год показывают, что почти в двух третях случаев невеста до свадьбы жила на расстоянии выстрела от дома своего жениха. Остальные жили так близко, что расстояние не создало больших неудобств для свадебных гостей. В Сен-Жан-Пье-де-Пор из 57 женщин почти все, выйдя замуж, удалились от своего родного дома меньше чем на 5 миль (исключений было лишь четыре). Только две из упомянутых раньше 679 названы «иностранками». Это значило не «из другой страны», а лишь «не из этого региона».
Даже если имеешь в своем распоряжении статистику и верное чувство масштаба, исследование страны тысячи «земель» приводит в замешательство. Здесь почти не встречаются более крупные модели устройства общества, которые появятся потом. Но здесь нет и той анархии, которую ты ожидал встретить. Выясняется, что многие города и селения имеют полноценно функционирующую систему правосудия со своими парламентами и неписаными конституциями.
Почти каждая деревня имела свой официальный орган управления – ту или иную разновидность собрания; в первую очередь это относилось к pays d’état, где влияние королевской власти всегда было слабым, – например, в Бургундии, Бретани и Провансе. На юге, где налоги рассчитывались по площади земли, необходимость измерять земельные участки и составлять их реестры привела к возникновению достаточно сложных деревенских учреждений, которые не только регулировали использование общей земли, но также управляли денежными средствами и составляли бюджет. Посланцы революции, которые ехали в провинцию, чтобы вдохнуть жизнь в умирающие, как они предполагали, города и деревни, с удивлением обнаруживали, что тело Франции здорово.
В некоторых из этих городов и деревень демократия процветала еще в то время, когда Франция была абсолютной монархией. Франсуа Марлен случайно попал в одно такое селение, когда путешествовал по Пикардии в 1789 году. Эта деревня называлась Саланси и выделялась чистотой и опрятностью. Он узнал, что деревней управлял старый священник. Ее жители никогда не отправляли своих детей прочь из дома работать слугами и запрещали им вступать в брак с женихами или невестами не из их прихода. В деревне жили 600 человек, и на всех было только три фамилии. Все они считались равными, и все возделывали землю, пользуясь вместо плугов мотыгами. Благодаря этому урожаи у них были большие; их дети, даже девочки, учились читать и писать у нанятого за плату учителя и его жены; все в деревне были здоровыми, мирными и внешне привлекательными. «Они не знали даже самого понятия «преступление»… Рассказ о девушке, которая согрешила против целомудрия, показался бы им выдумкой лгуна».
Этот отчет достаточно типичен для рассказов о самоуправляемых деревнях. Главой деревни часто был, как в Саланси, священник, который действовал как администратор, а не как служитель католической церкви. В Бретани на островах Оэдик и Уат один и тот же человек выполнял обязанности священника, мэра, судьи, таможенника, начальника почты, сборщика десятины, учителя, врача и акушера. Приезд в 1880-х годах двух заместителей мэра, по одному на каждый остров, ничего не изменил. Некоторыми городами и селениями управляли советы, которые были точными уменьшенными копиями государственной администрации. Городок Ла-Брес в долине на западе Вогезов до самой революции имел собственное законодательство и собственную судебную власть. Один географ писал в 1832 году: «Судьи этого города оказались очень здравомыслящими людьми, несмотря на свою грубую простонародную внешность». Когда один адвокат, на время заехавший в этот город, процитировал что-то на латыни во время своей защитительной речи, суд оштрафовал его за то, что ему «пришло в голову обращаться к нам на неизвестном языке», и велел ему в течение двух недель изучить законодательство Ла-Бреса.
Некоторые деревни-государства имели площадь во много квадратных миль. Клан Пинью жил в нескольких деревнях возле Тьера на севере Оверни. У этого клана даже был собственный маленький город, очевидно со всеми удобствами современной цивилизации. Главу клана выбирали все мужчины старше 20 лет. Его именовали «мэтр Пинью». А всех остальных называли по именам. Если мэтр Пинью оказывался неумелым, его заменяли. У этого клана не было частной собственности, а всех детей растила одна из женщин, которую называли Молочница, потому что она также управляла молочной фермой общины. Девочки никогда не работали в поле, их обучали в женском монастыре за общий счет. Те члены клана, которые вступали в брак с человеком не из клана, изгонялись из общины навсегда, хотя все они через какое-то время просили принять их обратно.
Во время революции так много маленьких городов и селений объявили себя независимыми именно потому, что они уже были частично независимы. У этих людей не было цели развивать местную экономику и стать частью более крупного общества. Как правило, перемены любого рода становились для них бедствием или грозили им голодной смертью. Мечтой большинства таких общин было разорвать связи с остальным миром, изолировать свой город или деревню. Это одна из причин, почему одна и та же единица измерения в разных деревнях имела разные размеры: стандартизация облегчила бы чужакам конкуренцию с местными производителями[5]. Они хотели облагородить и очистить свою группу. Во Франции так же часто хвалились, что никто из племени никогда не вступал в брак с иноплеменником, как хвалятся этим в большинстве племенных обществ. Местные легенды часто упоминают об особом разрешении на браки между близкими родственниками, которое было получено от папы (или, что более вероятно, от местного епископа). Благоразумное управление ресурсами деревни могло избавить ее жителей от необходимости покидать их крошечную родину.
Иногда детям – и сыновьям и дочерям – платили за то, чтобы они оставались дома. Племя шизеро, которое жило на берегах Соны в Бургундии, имело общую казну, из которой бедным девушкам давали приданое, чтобы им не пришлось искать себе мужей в других местах.
Самоуправление не было пустой мечтой, оно было неизбежной и повседневной действительностью. Люди, которые редко видели судью или полицейского, имели серьезные причины для того, чтобы создать собственную систему правосудия. А губернаторы провинций, у которых и без того было достаточно трудностей, имели столь же серьезные причины смотреть на это сквозь пальцы. В большинстве случаев местное правосудие было эффективной смесью психологической манипуляции и силы. В пиренейских деревнях от Атлантики до Средиземного моря поданная жалоба рассматривалась судом в течение трех заседаний, во время первого из которых истец и ответчик должны были молчать. Редко бывало, чтобы дело доходило до третьего заседания. В городе Мандёр, возле швейцарской границы, если случалась кража, созывали собрание на главной площади. Два мэра, которые управляли городом, брали в руки палку, каждый за один из концов, и все жители, которых было несколько сотен, должны были пройти под ней, чтобы доказать свою невиновность. Ни разу ни один вор не осмелился пройти под этой палкой. «Если бы он так поступил, а потом его бы уличили… от него бы шарахались, как от дикого зверя, и его семья была бы опозорена».
Существованием этих местных систем правосудия объясняются странные на первый взгляд результаты, которые показали в XIX веке некоторые статистические отчеты по поводу преступности. Согласно этим отчетам, почти все население Франции было тогда законопослушным, а в некоторых департаментах преступность, похоже, совсем исчезла. Иногда случались «пустые сессии», когда суды собирались на заседания, но не рассматривалось ни одного дела. В 1865 году в департаменте Аверон, где произошла битва при деревне Роксезьер, было вынесено восемь обвинительных приговоров за преступления против личности и тринадцать за преступления против собственности. В департаменте Шер (население 336 613 человек) соответствующие цифры были три и ноль. Цифры за 1865 год показывают, что во Франции, без учета Парижа, один преступник приходился на 18 тысяч человек.
Даже не будучи циником, можно предположить, что большинство описаний деревень-республик не вполне соответствовало действительности. Воры, убийцы и насильники, конечно, существовали. Франсуа Марлен проехал на своем пути через столько заваленных навозом и покинутых священником деревень, что Саланси, разумеется, произвела на него большое впечатление – иначе и быть не могло. Но чистота и отсутствие преступников в этой деревне были лицевой стороной несомненно деспотического управления. Жители Саланси, которые сами провозгласили себя добродетельными, должно быть, искалечили своей добродетелью жизнь многих людей: «иностранцев», гомосексуалистов, «ведьм», а также незамужних матерей, которые, возможно, пострадали больше, чем остальные разряды «нежеланных» людей. В Париже рождалось примерно в десять раз больше незаконных детей, чем где-либо еще во Франции, но не потому, что парижане были более развратны, а потому, что девушки, «согрешившие против целомудрия», часто бывали вынуждены покинуть свой родной край.
Деревенское правосудие не всегда бывало добрым или справедливым. За небольшие отклонения от нормы – если мужчина женился на женщине моложе себя или женщина выходила за мужчину моложе, чем она; если кто-то вступал в брак во второй раз, если муж бил свою жену или позволял, чтобы жена била его, – наказанием в большинстве случаев была «шаривари» – шумная унизительная песня или процессия, которая иногда сопровождалась кровопролитием. По сообщению одного антрополога, в Бретани прелюбодеев «в знак оскорбления забрасывали овощами». Жертву возили в телеге по всем соседним деревням, чтобы виновный стал предметом насмешек во всем известном мире. Плохие дороги мешали вывозить из регионов местную продукцию, но они же не давали страху и зависти выплеснуться в большой мир.
Для образованного меньшинства, по сути дела, не было разницы между деревенским правосудием и властью черни. Когда в 1835 году в Бомон-ан-Камбрези, в промышленном департаменте Нор, сожгли «ведьму» при тайном согласии местных властей, могло показаться, что Средние века еще не закончились. Но для людей, которые прожили всю жизнь в маленьком городке или в деревне, правосудие императорской Франции могло казаться таким же возмутительным и нелепым, как для жителей центральноафриканских колоний Франции.
3. Племена Франции – 2
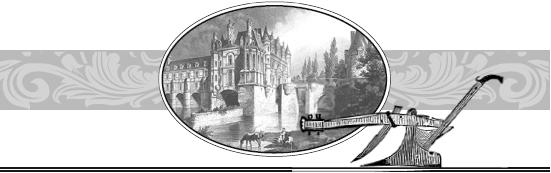
Чувство принадлежности к народам этих маленьких «земель»-«пеи» было сильнее, чем любое существовавшее позже чувство принадлежности к французскому народу. У крестьян (а по-французски крестьянин называется paysan – «пейзан», от слова «пеи») не было ни флагов, ни письменной истории. Но они проявляли свой местный патриотизм почти так же, как проявляется патриотизм национальный, то есть порочили соседей и восхваляли свое благородство.
Большой набор вульгарных прозвищ, данных деревням, – самое лучшее сохранившееся доказательство существования этой гордости своей «маленькой нацией». Несколько лестных прозвищ были признаны официально, например Коломбе-ле-Белль. Сейчас говорят, что слово «Белль» – «красавицы» относится к местным женщинам, хотя, возможно, первоначально речь шла о коровах. Но будь приняты все прозвища, карта Франции сейчас пестрела бы непристойностями и непонятными шутками. На одном маленьком участке территории Лотарингии жили «волки» из Люкура, небесным покровителем которых был святой Лу, чье имя похоже на слово «волк»; «зеленые куртки» из Ремеревиля, где портной однажды сшил партию курток из зеленого сукна, которые никак не изнашивались; и «большие карманы» из Сен-Ремимона: у местного портного куртки получались намного длиннее, чем у всех других мастеров. Были также «зады в дерьме» (culs crottés) из Монселя-на-Сене, где была необычно липкая грязь, «зазнайки» (дословно haut-la-queue – «задери-хвост») из Ара-на-Мёрте, жившие возле большого города Нанси, и «сони» из Бюиссонкура-ан-Франс, которые выкопали вокруг своей деревни огромный ров, перекинули через него подъемный мост и жили в счастливом уединении.
В некоторых случаях прозвище связано со знаменательным событием в истории получившей его деревни. Жителей деревни Людр прозвали «rôtisseurs» – «торговцы жареным мясом» за то, что когда-то все ее население пришло смотреть, как их священника сжигают на костре за прелюбодеяние. А жителей деревни Виньоль прозвали «poussais» – «гони-врага» за то, что они однажды взяли вилы и обратили в бегство своих соседей из Барбонвиля, которые хотели украсть у них чудотворную статую Богоматери. Большинство прозвищ специально рассчитаны на то, чтобы обидеть. Жители Розьер-о-Салин были названы «уа-уа» из-за дефекта речи, связанного с деформацией щитовидной железы, вызванной местными природными условиями. Этот недостаток казался смешным. Некоторые прозвища дожили до XX века. Самые оскорбительные, вероятно, никогда не были записаны – разве что на стенах, когда образование добралось до деревень. На павильоне автобусной остановки в Лаутенбахе, у подножия горы Гран-Баллон в Эльзасе, в 2004 году было написано: «Лаутенбахцы – дерьмоеды».
В мире, где мусор лежал близко от дома и невозможно было даже представить себе нынешние подземные пути человеческих отбросов, тема любви людей к собственным экскрементам была очень популярна. Жители Сен-Никола-де-Пор были известны как «горлопаны». Их соседи из Варанжевиля, который находится напротив на другом берегу реки Мёрты, любили собираться на берегу и дразнить их, крича хором на местном лотарингском диалекте:
Booyaî d’Senn’Colais,Tend tet ghieule quand je…[6]Внешняя политика деревень велась на языке оскорблений, а внутренняя пропаганда превозносила незапятнанную честь деревенского племени. Многие сообщества заявляли, что имеют престижную родословную. Могущественный клан Пинью из Тьера возводил свой род к одному предку, который в 1100 году установил все правила, по которым продолжает жить клан (подлинная дата, вероятно, 1730). В Мандёре, который может похвалиться римским амфитеатром, большинство жителей верили, что происходят от римского полководца. У этих людей были доказательства – надписи, вырезанные на дверных косяках, и мозаики. Чужаков, которые пытались поселиться на их территории, они считали варварами и изгоняли. О своем древнем и благородном происхождении также заявляла часть населения Иссудена, которая внешне явно отличалась от остальных его жителей. Бальзак в романе «Два брата» (1841) объяснил это так:
«Этот пригород называется Римское Предместье. Его жители, которые действительно отличаются от прочих расовыми признаками, кровью и внешним видом, называют себя потомками римлян. Почти все они виноградари и отличаются очень строгой нравственностью, несомненно из-за своего происхождения, а также из-за победы над коттеро и рутьерами[7], которых они истребили на равнине Шаро в XII веке».
Некоторые из этих претензий на происхождение от другого народа были основаны на исторической правде. Форатены – группа населения в провинции Берри – были потомками наемников-шотландцев, которым Карл VII в XV веке выделил для поселения лесной край между Муленом и Буржем. (Некоторые люди, побывавшие там в XIX веке, уверяли, что заметили у местных жителей легкий акцент.) Там и теперь еще существуют маленькая деревня, замок и расчищенная от леса поляна, которые называются Лез-Экоссе, что значит «Шотландцы». В городе Обиньи-сюр-Нер ежегодно в день взятия Бастилии происходит франко-шотландский фестиваль. В Жиронде, к востоку от Бордо, была отдельная группа населения – гаваши, иначе маротены; в конце 1880-х годов их насчитывалось около 8 тысяч. Их предков в XVI веке привезли из Пуату и Анжу, чтобы заселить заново область, опустошенную эпидемией, и потомки сохранили свои особые черты до XX века.
Но большинство таких претензий, особенно на происхождение от римлян, были чистейшими фантазиями. Кровь римлян не могла оставаться чистой в течение пятидесяти поколений. «Римляне» в обыденном сознании были аристократами, теми правителями, которые, конечно, были гораздо лучше, чем местный сеньор. Некоторыми из мостов, построенных в те времена, люди пользовались до нашего времени, постройки римлян часто были самыми внушительными в городе. На юге Франции многие деревни, подражая римлянам, называли своих должностных лиц консулами. Отчасти именно благодаря этому генеалогическому тщеславию остатки римских зданий в Оранже, Ниме и Арле уцелели в те годы, когда памятники прошлого считались источником материала для нового строительства.
История в обычном смысле этого слова имела к этому слабое отношение. В департаменте Тарн «римлян» часто путали с «англичанами», а в некоторых частях Оверни люди говорили о «добром Цезаре», не зная, что этот «добрый старый Цезарь» пытал и резал их галльских предков. Другие группы населения – жители Санса, обитатели болот в провинции Пуату и семействосавойских монархов – пошли еще дальше: они возвели свою родословную к галльским племенам, которые так и не сдались римлянам.
Маловероятно, что такие устные предания были очень древними. Местные рассказы редко уходят в прошлое дальше чем на два или три поколения. Городские и деревенские легенды грубы, как изделия домашней работы, и совершенно не похожи на те яркие и насыщенные убедительными деталями рассказы о прошлом, которые ученые позже преподнесли провинциалам Франции и объявили наследием предков. Большинство сведений, которые современные туристические бюро сообщают своим клиентам о той или иной местности, в XVIII веке были неизвестны ее жителям. Один фольклорист провел четыре года в Бретани и, вернувшись в Париж в 1881 году, сообщил – несомненно, разочаровав этим романтичных поклонников туманного полуострова Арморика, – что ни один бретонский крестьянин никогда не слышал о бардах и друидах.
Эти местные легенды начали исчезать именно в то время, когда, вероятнее всего, их бы записали. В те местности, куда могли попасть туристы и этнологи, добирались также образование и газеты, они создавали одинаковое ощущение прошлого у большинства людей. Старые местные рассказы теперь звучали смешно и провинциально. Вот почему голос племенной истории сейчас слышен только в сравнительно далеких от крупных центров местностях, где люди по традиции враждебно относятся к правительству и дружелюбно – к иноземцам.
Длинная полоса Атлантического побережья Франции, которая проходит через бывшие провинции Онис, Сентонж и Пуату, до сих пор представляет собой полные комаров и мошек пустынные, лишь частично осушенные болота. Двести лет назад эту местность называли болота Пуату, и остальной мир считал ее краем мрачных заводей, населенным преступниками, неудачниками и дезертирами, бежавшими из армий Наполеона. Они бежали в западном направлении, скрылись в камышах и не вернулись в цивилизованный мир. Поэтому те немногие приезжие, кто, не боясь болотных лихорадок, заглядывал в этот край, очень удивлялись, увидев там признаки живого и хорошо организованного общества. У ровного горизонта виднелись мирно плывущие стада скота. Семьи направлялись в церковь на плоскодонных лодках, таких легких, что их можно было нести под мышкой. Приезжие видели детей в кроватях на длинных ножках, которые во время прилива окружала вода. Эти дети учились управлять лодкой едва ли не раньше, чем говорить. А самым удивительным было то, что эти люди, которые называли себя «коллиберы», кажется, были счастливы в своих водяных домах и отказались переезжать, когда строители каналов предлагали им дома «на равнине».
У коллиберов было еще одно, презрительное название – «ютье» (huttiers), то есть «лачужники», оттого что они жили в лачугах, вернее, землянках, которые казались наполовину погруженными в воду островками среди трясины. Мускусный запах высушенного на солнце навоза просачивался через тростниковую крышу. Столы и стулья были сделаны из связок тростниковых стеблей и камыша. Сеть каналов связывала эти болота с сушей и с открытым морем. Многие коллиберы зарабатывали себе на жизнь, продавая рыбу в Сабль-д’Оллоне. Этих людей было больше, чем кто-либо предполагал. В начале XX века болотный флот Пуату все еще насчитывал почти 10 тысяч лодок.
К сожалению, сохранилось мало подробных описаний повседневной жизни коллиберов, но мы все же знаем, что у них была своя история и традиции. Образованный коллибер по имени Пьер в 1820-х годах рассказал одному приезжему историю своего племени. Пьер или тот, кто его расспрашивал, могли добавить в нее несколько романтических оссиановских штрихов, но основные элементы настолько типичны, что убеждают нас в ее подлинности:
«Я родился коллибером. Так называют класс людей, которые рождаются, живут и умирают в своих лодках.
Мы – отдельная раса и ведем свое происхождение от первых дней существования мира. Когда Юлий Цезарь появился на берегах рек Див и Севр, наши предки, агезинаты-камболектры, которые были союзниками племени пиктавов, жили на тех землях, которые позже стали частью Нижнего Пуату и теперь известны всем под названием Вандея.
Римский завоеватель не осмелился вступить в наши леса, решил, что мы побеждены, и прошел мимо своим путем.
Согласно коллиберскому фольклору, готы и скифы, сражавшиеся в римских войсках, женились на самых цивилизованных из агезинатских женщин, и эти женщины начали возделывать эти земли.
Чтобы избавиться от прежних жителей, которые продолжали вести кочевую жизнь и бродили среди них, эти люди прогнали их из бокажа[8] обратно в болота вдоль океана, зажав их между сушей и бурным морем…
Нас назвали коллиберами, что значит «свободные головы». Отняв у нас наши леса, завоеватели оставили нам нашу свободу… И все же, бродя по берегам и болотам, наши отцы постоянно видели перед глазами страну, которую они потеряли. Это печальное зрелище наполняло печальных коллиберов неугасимой ненавистью к человеческому роду…
Таков народ, среди которого я родился. Наши обычаи не изменились с первых дней нашего изгнания. Какими они были в IV веке, такими остались и теперь, а браки между близкими родственниками позволили нам сохранить почти полную чистоту крови среди несчастных остатков древнего народа агезинатов-камболектров».
Потеря родной земли и изгнание, резкое отличие от мира, который лежит за пределами родины, гордость старинными обычаями, древностью и чистотой крови своего народа – все это типично для племенного фольклора. Происхождение племени всегда относили к начальным временам, а иногда относят и сейчас[9]. Эти легенды обычно сложены из старых рассказов и обрывков исторических сведений, найденных в альманахах или услышанных от путешественников. Рассказ об агезинатах взят у Плиния Старшего, а не из коллективной памяти. На самом деле коллиберы, вероятно, были освобожденными крепостными, которые возделывали землю на первых осушенных болотах Пуату в XIII веке.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Арверны – одно из галльских племен. (Примеч. пер.)
2
Коммуна – самая маленькая из административных единиц, которые были введены в 1790 г. Сегодня во Франции насчитывается 36 565 коммун, 3876 кантонов, 329 округов, 96 департаментов (в том числе 4 заморских) и 22 региона. (Примеч. авт.)