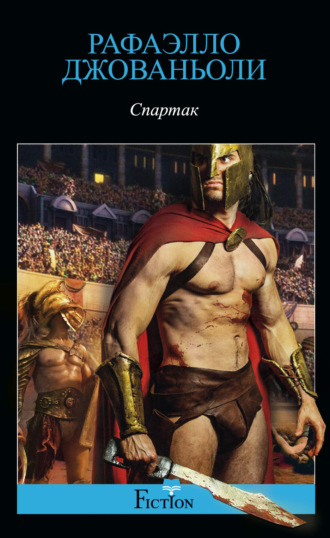
Полная версия
Спартак
Спартак взял руку Крикса и показал ему, как должен подаваться знак.
– Понял?
– Понял, – ответил тот.
– Ступай же, не теряя времени, и скажи каждому машелулу, чтобы он сказал своей пятерке гладиаторов, что заговору нашему грозит опасность быть открытым, а поэтому всякому, кто скажет прежний пароль или подаст прежний знак, надлежит отвечать, что мы потеряли всякую надежду на успех и совершенно отказались от нашего безумного предприятия. Завтра рано утром мы отправимся в школу Юлия Рабеция.
Сказав это, Спартак пожал руку Крикса и, расставшись с ним, направился быстрыми шагами к дому Суллы. На стук его привратник отворил дверь и провел его в маленькую комнатку его сестры на половине Валерии.
Мирдза, успевшая снискать расположение своей хозяйки и уже занявшая при ней важный пост смотрительницы за туалетом, нетерпеливо ждала своего брата. Когда он вошел в ее комнату, она бросилась к нему на шею и покрыла его лицо поцелуями.
После этих первых излияний она весело рассказала Спартаку, что она пригласила его в такой час по приказанию своей госпожи, которая часто беседует с ней о нем, расспрашивает ее об обстоятельствах его жизни с таким участием, которое совсем непонятно со стороны такой знатной дамы по отношению к гладиатору. Зная, что у Спартака нет теперь никакого занятия, она велела позвать его в этот вечер, чтобы предложить ему управление школой гладиаторов, которую Сулла завел незадолго перед тем на своей вилле в Кумах.
Трудно передать, какие чувства изобразились в эту минуту на лице Спартака: оно то краснело, то бледнело, и он энергично встряхивал головой, как бы силясь отогнать обуревавшие его мысли.
– Не полагают ли они, что я снова продамся в рабство, если возьмусь управлять их школой? Или они оставят нам свободу? – спросил он, наконец, сестру.
– Этого она мне не объяснила, – ответила Мирдза. – Но, судя по ее доброму расположению к тебе, она, наверное, оставит тебе свободу.
– Так она – добрая женщина, эта Валерия?
– Она так же добра, как и красива.
– О, в таком случае доброта ее должна быть беспредельной.
– Кажется, и ты к ней очень расположен?
– Я?.. Безразличен! Но мое чувство к ней полно преданности и уважения, как и подобает со стороны человека в моем жалком положении по отношению к такой знатной матроне.
– Ну, так знай же… только ради богов не проговорись при ней об этом, так как она строго запретила мне передавать то, что она мне сказала, – знай, что твои нежные чувства к ней внушены тебе богами, как долг признательности, потому что она-то, Валерия, и заставила в цирке Суллу даровать тебе свободу.
– Как?.. Правду ли ты говоришь?.. – вскричал Спартак, вскочив с места и побледнев как полотно.
– Правду, истинную правду! Только не показывай ей, что ты знаешь об этом.
Спартак склонил голову на грудь и задумался, а Мирдза прибавила:
– Ну, теперь я пойду предупредить Валерию о твоем приходе и, если она позволит, введу тебя к ней.
Спартак, погруженный в свои размышления, не слыхал ее слов и не заметил, как она выпорхнула из комнаты.
Он увидел в первый раз Валерию с месяц назад, когда входил в дом Суллы, чтобы навестить свою сестру. Жену диктатора выносили на носилках, и она, вероятно, не заметила рудиария, стоявшего под портиком ее дома.
Бледное лицо ее с черными огненными глазами произвело на него мгновенное, молниеносное впечатление и вызвало в нем странное, неотразимое влечение к этой женщине; ему вдруг показалось, что конечной целью всех его желаний было бы поцеловать край туники этой красавицы, прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.
Какая-то непонятная сила притяжения влекла их друг к другу, так как и Валерия, несмотря на свое знатное происхождение, создававшее такую бездну между ними, почувствовала, как мы видели, с первой же встречи влечение к бедному гладиатору.
Вначале обездоленный фракиец силился вырвать из своего сердца это новое чувство; рассудок говорил ему, что эта любовь – безумие, которому нет равного, бред сумасшедшего, ибо осуществлению ее мешают непреодолимые препятствия. Тем не менее воспоминание об этой женщине преследовало его неотступно, примешивалось ко всем его заботам и мыслям, мучило его ум и овладело всеми его мыслями.
Не раз он, почти бессознательно, приходил к дому Суллы, прятался за колонну и ждал, когда выйдет Валерия. Таким образом, невидимый ею, он видел ее несколько раз, и с каждым разом она казалась ему прекраснее; с каждым днем росло в его душе чувство восторга, обожания, безграничной преданности к этой женщине – чувство, которого он не мог объяснить даже самому себе.
Валерия только раз заметила его, и бедному рудиарию показалось, будто она взглянула на него благосклонно, ласково, даже любовно. Но он тотчас отогнал эту мысль, приняв ее за галлюцинацию, за бред своих страстных желаний; он понимал, что она сведет его с ума, если он даст себе волю останавливаться на ней. Понятно, какое впечатление должны были произвести на него слова Мирдзы при таком состоянии его души. Он – в доме Суллы, в нескольких шагах от этой женщины, – нет, от этой богини, которой он готов был принести в жертву свою кровь, честь, самую жизнь! Он увидит ее вскоре перед собой, быть может, останется с ней наедине, услышит ее голос, будет смотреть на ее черты, глаза, улыбку… никогда еще невиданную им улыбку, которая должна быть прекрасна, как весеннее небо!.. Всего несколько минут отделяют его от неизъяснимого счастья, о котором он не смел даже мечтать!.. Но как же это случилось!.. Не сон ли это?.. Не бред ли его разгоряченного воображения?.. Или не сходит ли он с ума? Не сошел ли уже, несчастный?..
При этой мысли Спартак вздрогнул и осмотрелся, ища свою сестру. Но ее не было в комнате. Он схватился за голову, думая унять кровь, молотом стучавшую в его виски, и рассеять туман, заволакивающий его рассудок.
– О боги, – прошептал он, – не дайте мне сойти с ума!..
Он снова огляделся вокруг и, узнав место, где он находится, пришел мало-помалу в себя.
Да, это комната его сестры: вот ее маленькая кровать в углу, две табуретки с вызолоченными ножками – у стены, далее – небольшой деревянный комод с бронзовыми украшениями и на нем – терракотовая луцерна, окрашенная в зеленый цвет, в виде ящерицы, изо рта которой выходит пламя, освещающее комнату…
Спартак, все еще находившийся под влиянием мысли, что он сошел с ума, подошел нетвердыми шагами к комоду и поднес палец к огню. Он отвернул его только тогда, когда жгучая боль убедила его, что он не спит и не бредит. Тогда он напряг всю силу воли, чтобы победить в себе волнение и овладеть своими чувствами.
Это настолько удалось ему, что, когда вернувшаяся вскоре Мирдза позвала его к Валерии, он казался спокойным, хотя сердце его страшно стучало и лицо покрылось мертвенной бледностью.
Мирдза заметила это и с испугом спросила:
– Что с тобой, Спартак? Ты болен?
– Нет, вовсе нет… Я никогда не чувствовал себя лучше, – ответил рудиарий и спустился вслед за сестрой с лестницы (в Древнем Риме рабы жили в верхнем этаже). Мирдза ввела его в конклав Валерии.
Конклавом называлась комната, соответствующая нынешнему будуару, в которой римская матрона занималась чтением, принимала близких друзей, вела интимные разговоры. Обыкновенно комната эта находилась возле ее спальни.
Конклав Валерии в ее зимних покоях (в домах римских патрициев для каждого времени года были особые покои) представлял маленькую уютную комнату, задрапированную дорогой восточной материей, скрывавшей железные нагревательные трубы, поддерживавшие в комнате приятную теплоту даже в самую холодную погоду.
Складки голубых драпировок, подобранных в прихотливые фестоны, спускались от потолка до пола, повитые, словно белым облаком, тончайшим газом, подколотым букетами свежих роз, которые распространяли в комнате дивное благоухание.
С потолка спускалась роскошная золотая лампа с тремя рожками в виде розы среди листьев, искусная работа греческого мастера. Лампа слабо освещала комнату голубоватым матовым светом и в то же время распространяла в ней тонкий аромат арабских духов, примешанных к маслу.
В этой кокетливой комнатке в восточном вкусе не было никакой мебели, кроме мягкого ложа, покрытого белой шерстяной материей с голубыми узорами, нескольких табуреток, обитых такой же материей, и маленького серебряного комода с четырьмя ящиками, на которых были рельефно изображены мастерским резцом четыре победы Суллы.
На комоде стоял графин из горного хрусталя с красными рельефными цветами и арабесками – драгоценное произведение арентинских мастеров. Графин был наполнен прохладительным напитком из фруктового сока, часть которого была отлита в стоявшую возле него чашу из мурринского фарфора – брачный подарок Суллы, настоящее сокровище, стоившее не менее тридцати или сорока миллионов сестерциев, – так высоко ценились в ту пору эти редкие чаши.
В этом мирном, уединенном, благоухающем уголке полулежала ни софе красавица Валерия, одетая в белоснежную тунику с голубой бахромой. Ее божественные плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, белоснежная, полуобнаженная грудь были прикрыты темными волнами рассыпавшихся по ним кудрей. Опершись локтем на широкую подушку, она поддерживала свою голову изящной рукой.
Лицо ее было неподвижно, глаза полузакрыты: казалось, она спала или, по крайней мере, была так погружена в свои, по-видимому, приятные мечты, что ничего не замечала вокруг себя. Она не шевельнулась, когда скрипнула отворяемая дверь, и Мирдза ввела Спартака, не шевельнулась и тогда, когда рабыня, удаляясь, притворила дверь за собой.
Спартак, бледный, как паросский мрамор, стоял несколько минут неподвижно и глядел на красивую матрону в немом благоговении. В груди его клокотала буря чувств, каких он еще никогда не испытывал, и Валерия могла слышать его бурное дыхание; но, казалось, она ничего не слышала. Только через несколько минут она вдруг очнулась, словно ей кто-то прокричал, что перед ней стоит Спартак. Она быстро приподнялась, повернула к нему свое залившееся румянцем лицо и, с наслаждением вздохнув, томно проговорила:
– А!.. это ты!
При звуке ее голоса вся кровь бросилась в лицо Спартака; он сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни слова.
– Да хранят тебя боги, храбрый Спартак! – с улыбкой проговорила Валерия, также с трудом подавлявшая свое волнение. – Садись, – прибавила она, указав на табурет.
Спартак, успевший овладеть собой, ответил дрожащим голосом:
– Боги покровительствуют мне более, чем я заслуживаю, божественная Валерия, так как они дали мне величайшее счастье, какое может выпасть на долю смертного, – счастье пользоваться твоим покровительством.
– Ты не только храбр, но и любезен, – заметила Валерия, в глазах которой блеснула радость.
Помолчав, она спросила по-гречески:
– Ты, наверное, был одним из вождей своего народа, прежде чем попал в плен, не так ли?
– Я был князем одного из самых могущественных фракийских племен в Родопских горах, – ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил если и не с аттической, то, по крайней мере, с александрийской изысканностью. – У меня был свой дом, многочисленные стада овец и быков, плодоносные пашни. Я был богат, могуществен, счастлив и – поверь мне, божественная Валерия, – был человеколюбив, справедлив, уважал богов.
Голос его на минуту прервался, а потом он со вздохом прибавил:
– Я не был варваром, не был рожден, чтобы сделаться презренным рабом, жалким гладиатором.
Валерия устремила на него ласковый, полный сострадания взгляд.
– Мне много рассказывала о тебе твоя добрая сестра Мирдза. Твоя необычайная храбрость всем известна, а теперь, разговаривая с тобой, я убеждаюсь, что ты и по уму, и по воспитанию, и по одежде более похож на грека, чем на варвара.
Трудно изобразить, как подействовали на Спартака эти слова. Глаза его наполнились слезами, и он ответил прерывающимся голосом:
– О, да благословят тебя боги за твои добрые слова, великодушная женщина, и да сделают они тебя счастливейшей из людей!
Валерия была, видимо, взволнованна; ее чувства выдавал блеск ее прекрасных глаз и учащенное дыхание. Что касается Спартака, то он был вне себя; ему казалось, что он бредит, что все, происходящее с ним, есть только фантасмагория его разгоряченного воображения, но тем не менее он отдавался ей, погружался всей душой в этот чудный сон, в эту блаженную иллюзию. Он глядел на Валерию с восторженным обожанием; голос ее казался ему сладчайшей мелодией, издаваемой арфой Аполлона. Огненные глаза ее сулили неисчерпаемое блаженство любви, но он не смел верить этому обещанию и приписывал его галлюцинациям разгоряченного воображения. Взгляд его тонул в этих глазах, черпал в них неизреченное блаженство, изливал в них все свои чувства, мысли, всю свою душу.
За последними словами Спартака последовало продолжительное молчание, нарушаемое только горячим дыханием фракийца и матроны. Почти бессознательно между их сердцами установился какой-то ток сочувствия, общности мысли, заставлявший обоих в смущении молчать.
Валерия первая нарушила это опасное молчание, сказав:
– Не возьмешь ли ты на себя – теперь, когда ты свободен, – управление школой из шестидесяти рабов, которых Сулла хочет обучить гладиаторскому искусству на своей вилле в Кумах?
– Я готов сделать все, что ты прикажешь: я – твой раб, твоя вещь, – ответил Спартак чуть слышно, не сводя с матроны своего взгляда, в котором была написана восторженная преданность.
Валерия поднялась с софы, прошлась по комнате, словно чем-то смущенная, и, остановившись перед Спартаком, с минуту молча глядела ему в глаза, а потом мягко спросила:
– Скажи мне откровенно, Спартак, что ты делал несколько дней назад, прячась за колоннами портика моего дома?
Бледное лицо гладиатора залилось краской; он опустил голову, ничего не отвечая и не смея взглянуть в глаза матроны. Он попытался ответить, но слова не шли с языка: его подавлял стыд при одной мысли, что тайна его сердца угадана Валерией, что она смеется в душе над глупой заносчивостью презренного гладиатора, осмелившегося поднять глаза на прекраснейшую и знатнейшую из римских дам. Никогда еще не сознавал он так горько незаслуженной приниженности своего положения и никогда не проклинал так войны и римского могущества, как в эту минуту. Он весь дрожал, скрежетал зубами и плакал тайными слезами от унижения, бешенства и сердечной боли.
Валерия, не зная, чем объяснить его молчание, приблизилась к нему на шаг и спросила еще мягче и милостивее:
– Ну что же, Спартак?.. Отвечай мне.
Рудиарий, не поднимая головы, упал к ее ногам и пробормотал:
– Прости!.. прости меня!.. Ты вправе приказать своим рабам высечь меня плетьми… в праве распять меня на Сессорийском поле… Я все это заслужил.
– Что это значит? – спросила Валерия, взяв его за руку и поднимая.
– Клянусь, я обожал тебя, как обожают Венеру или Юнону.
– А! вот что! – вскричала матрона довольным тоном. – Так ты приходил, чтобы увидеть меня?
– Прости… прости… я приходил, чтобы поклоняться тебе.
– Встань, Спартак! У тебя благородная душа, – вскричала Валерия дрожащим от волнения голосом, крепко сжимая его руку.
– Нет, нет, мое место здесь, у твоих ног, божественная Валерия!
Говоря это, он схватил край ее туники и стал пылко целовать его.
– Встань, встань! Это не место для тебя, – шептала молодая женщина, вся трепеща.
Спартак покрыл ее руки страстными поцелуями и, глядя ей в глаза, в безумном восторге шептал:
– О, божественная… божественная Валерия!..[11]
VI. Угрозы, козни и опасности
– Скажи мне, наконец, – говорила прекрасная греческая куртизанка Эвтибидэ, лежа на мягких пурпуровых подушках в своей экседре, в доме на Священной улице, близ храма Януса, – скажи, знаешь ты что-нибудь или нет? Есть у тебя в руках какая-нибудь нить или нет никакой?
Эти слова были обращены к мужчине лет под пятьдесят, с безбородым, бабьим лицом, изрытым морщинами под плохо смытым слоем белил и румян, одежда которого обличала комедианта. Не ожидая его ответа, Эвтибидэ прибавила:
– Хочешь ты знать мое мнение о тебе, Метробий?.. Оно никогда не было высоким, но до сих пор я не считала тебя глупцом.
– Клянусь маской моего патрона Момуса, – ответил комедиант визгливым голосом, – не будь ты Эвтибидэ, то есть прекраснее самой Дианы и обольстительнее Киприды, Метробий, старый друг Корнелия Суллы, серьезно рассердился бы на тебя. Если бы другая женщина сказала мне такие слова, клянусь победоносным Геркулесом, я развернулся бы и ушел, пожелав ей счастливого пути к Стиксу!
– Но что же ты делал все это время? Какие сведения собрал относительно их планов?
– Погоди, расскажу. Узнал я много и ничего…
– Это что же значит?
– Потерпи, я объясню. Надеюсь, что ты не сомневаешься в том, что я, Метробий, старый комедиант, тридцать лет исполняющий женские роли, умею очаровывать людей, тем более если эти люди – грубые и невежественные рабы или еще более невежественные гладиаторы и если в моих руках имеется такая неотразимая приманка, как золото…
– Потому-то я и возложила на тебя это дело, что полагалась на твою ловкость, но…
– Но пойми же, обольстительная Эвтибидэ, что коль скоро мне предстояло выказать свою ловкость в открытии заговора гладиаторов, то надо, чтобы заговор этот существовал, а так как его не существует, то тебе остается только испытать мою ловкость на чем-нибудь другом.
– Как не существует? Не может быть.
– Несомненно, прелестная моя девица.
– Но ведь не далее как два месяца назад заговор существовал: я имела о нем сведения. Гладиаторы составили тайный союз; у них были свои лозунги, свои символические знаки; они замышляли восстание, нечто вроде возмущения рабов в Сицилии.
– И ты серьезно веришь в возможность восстания гладиаторов?
– А почему же нет? Разве не умеют они сражаться? Разве не умеют умирать?
– На арене цирка…
– А если они умеют сражаться и умирать на потеху толпы, то тем более сумели бы сделать это ради возвращения себе свободы.
– Э! Во всяком случае, если и правда, что между ними составлялся заговор, то могу тебя положительно уверить, что он расстроился.
– Ах, – вздохнула красивая гречанка, – я знаю почему, по крайней мере, боюсь, что я угадываю, – прибавила она в раздумье.
– Тем лучше! А я так ничего не знаю и не имею ни малейшей охоты знать.
– Гладиаторы соединились бы и восстали, если бы римские патриции, враги законов и сената, взялись предводительствовать ими.
– Но если бы между римскими патрициями, как бы презренны они ни были, не нашлось таких негодяев, которые согласились бы стать во главе гладиаторов?..
– Однако была минута… Впрочем, довольно об этом! Теперь нужно заняться другим. Скажи, Метробий…
– Сперва ты удовлетвори мое любопытство, – перебил комедиант, – скажи, как удалось тебе узнать об этом заговоре гладиаторов?
– От одного грека… моего соотечественника, также гладиатора…
– Ты, Эвтибидэ, пользуешься на земле большей властью, чем Юпитер – на небе. Ты стоишь одной ногой на Олимпе олигархов, а другой – в грязи плебса…
– Тем лучше. Если хочешь достичь…
– Достичь чего?
– Власти! – громко крикнула Эвтибидэ, вскочив с места. Глаза ее загорелись зловещим огнем, и лицо приняло выражение такой ненависти, смелости и неукротимой воли, каких невозможно было предположить в этой гибкой, грациозной девушке. – Да, власти, богатства, могущества и… – прибавила она, понизив голос, но еще внушительнее, – и мести.
Как ни привык Метробий к сценическим эффектам, однако и он был поражен и глядел на Эвтибидэ разинув рот. Заметив его изумление, она громко расхохоталась.
– Не правда ли, я могла бы сыграть роль Медеи, если и не так хорошо, как Галерия Эмболария, то все же недурно? Ты словно окаменел, бедный мой Метробий! Старый ты, опытный комедиант, а все-таки остаешься бабой и ребенком!
Эвтибидэ продолжала хохотать, видя, что Метробий все более и более дивится, глядя на нее.
– Так для чего же мне нужна власть, как ты думаешь, старый колпак? – спросила его куртизанка, хохоча, и, щелкнув его по носу, продолжала: – Для того, чтобы разбогатеть, как любовница Суллы Никополия или как старая куртизанка Флора, влюбленная в Кнея Помпея и серьезно заболевшая от того, что он бросил ее. Вот чего со мной, божусь Венерой, никогда еще не случалось. Да, старая маска: чтобы разбогатеть, страшно разбогатеть и упиться всеми сладостями жизни, так как после нее, по учению божественного Эпикура, нет ничего. Понял ты теперь, для чего я пользуюсь всеми средствами обольщения, какими наделила меня природа, и с какой целью стою одной ногой на Олимпе, а другой – в грязи?
– Но грязь пачкает.
– Можно отмыться. Разве мало в Риме терм, фофан ты этакий! Разве нет ванны в моем доме? Но… боги! Кто вздумал читать мне мораль!.. Человек, проживший всю жизнь в самых гнусных пороках, в самом грязном разврате!
– Ну, полно, полно! Не рисуй моего портрета слишком живыми красками, не то он выйдет так похож, что все разбегутся при виде такого урода. Ведь я пошутил. Какое мне дело до морали?
Говоря это, Метробий приблизился к куртизанке и, взяв ее руку, принялся целовать ее.
– Когда же ты наградишь меня в благодарность за мою преданность? – спросил он.
– Наградить?.. В благодарность?.. За что же я должна быть тебе благодарной, старый сатир? – сказала Эвтибидэ, отдернув руку и оттолкнув его. – Разве ты открыл заговор гладиаторов?
– Но как же мог бы я открыть, прелестная Эвтибидэ, то, чего не существует? – жалобно возразил старик, смиренно следуя за гречанкой, ходившей по комнате. – Как? Скажи, любовь моя.
– Ну хорошо, – сказала девушка, обернувшись и глядя на него с обворожительной улыбкой, – если ты хочешь заслужить доказательство моей благодарности…
– Приказывай, очаровательная дева!
– Продолжай следить за гладиаторами, так как мне не верится, чтобы они совсем отказались от своего предприятия.
– Буду следить: отправлюсь в Кумы, в Капую…
– Главное – выслеживай Спартака, если хочешь что-нибудь открыть.
Лицо Эвтибидэ покрылось яркой краской, когда она произносила это имя.
– О, что касается Спартака, то я и без того уже слежу за ним целый месяц, и не по твоему делу, а по своему собственному… вернее, по делу Суллы.
– Как?.. Что ты хочешь сказать? – с живостью спросила куртизанка, приближаясь к Метробию.
Тот осмотрелся, как бы боясь, что кто-нибудь услышит его, и, приложив палец к губам, тихо проговорил:
– Это моя тайна… мое подозрение… А так как я, быть может, ошибаюсь и дело касается Суллы, то я не стану говорить о нем ни с кем в мире, пока не буду убежден, что я не ошибся.
Пока он говорил, на лице Эвтибидэ изобразилась тревога, которая должна была показаться комедианту непонятной. Потому ли, что тайна Метробия интересовала ее или просто по женскому любопытству и желанию испытать силу своих чар над сластолюбивым стариком, но только она твердо решила во что бы то ни стало выведать его тайну.
– Не покушается ли Спартак на жизнь Суллы? – спросила Эвтибидэ.
– Нет. С чего это тебе пришло в голову?
– Так в чем же дело?
– Не могу сказать. Впоследствии я открою тебе…
– Нет, ты должен открыть сейчас! Ведь ты скажешь мне, милый Метробий, – прибавила она, взяв его руку и нежно поглаживая его другой рукой по лицу. – Разве ты не доверяешь мне? Разве не знаешь по опыту, как серьезна и непохожа я на других женщин? Не ты ли говорил, что я могла бы считаться восьмым греческим мудрецом?.. Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим патроном, что ни одна душа в мире не узнает того, что ты мне откроешь. Скажи же, скажи своей Эвтибидэ, добрый Метробий! Моей благодарности не будет пределов.
Пустив в ход ласки, нежные взгляды и обольстительные улыбки, куртизанка очень скоро достигла своей цели.
– Ну, я вижу, что от тебя не отделаешься, пока не исполнишь твоей воли, – сказал наконец Метробий. – Знай же, что я подозреваю, и не без причины, что Спартак влюблен в Валерию, и она отвечает на его страсть.
– О, фурии ада! – вскричала Эвтибидэ, потрясая кулаками и мертвенно побледнев. – Возможно ли это?
– Я имею много причин подозревать это, хотя положительных доказательств еще не имею. Помни, однако: никому ни слова.
– А… вот что!.. – в раздумье промолвила Эвтибидэ, как бы рассуждая сама с собой. – Да… иначе и быть не могло… Так другая!.. другая!.. – вскричала она в диком исступлении. – Так есть женщина, победившая тебя в красоте, безумная! Есть!..
Она закрыла лицо руками и зарыдала. Нетрудно угадать, что почувствовал Метробий при виде этого взрыва отчаяния, причина которого была слишком ясна.
Эвтибидэ, обожаемая Эвтибидэ, по которой вздыхало столько богатых и знатных патрициев, Эвтибидэ, никогда никого не любившая, в свою очередь воспылала безумной страстью к непобедимому гладиатору! Куртизанка, пренебрегавшая любовью стольких знатных поклонников, отвергнута презренным гладиатором!

