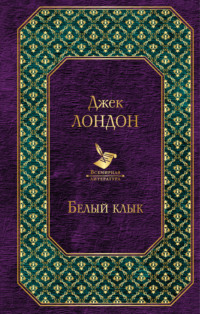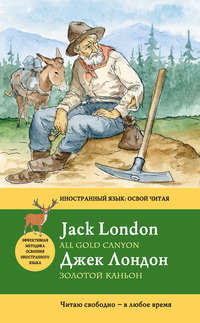Полная версия
Мартин Иден
Он маялся этими сомнениями всю первую половину обеда, и оттого был тише воды, ниже травы. И не подозревал, что своей молчаливостью опровергает слова Артура, – тот накануне объявил, что приведет к обеду дикаря, но им бояться нечего – дикарь презанятный. В тот час Мартин Иден нипочем бы не поверил, что брат Руфи способен на такое предательство, да еще после того, как он этого брата вызволил из препаршивой заварушки. И он сидел за столом в смятении, что он тут не к месту, и притом зачарованный всем, что происходило вокруг. Впервые в жизни он убедился, что можно есть не только лишь бы насытиться. Он понятия не имел, что за блюда ему подавали. Пища как пища. За этим столом он насыщал свою любовь к красоте, еда здесь оказалась неким эстетическим действом. И интеллектуальным тоже. Ум его был взбудоражен. Здесь он слышал слова, значения которых не понимал, и другие, которые встречал только в книгах, – никто из его окружения, ни один мужчина, ни одна женщина, даже произнести бы их не сумели. Он слушал, как слова эти слетают с языка у любого в этой удивительной семье – ее семье, – и его пробирала дрожь восторга. Вот оно необыкновенное, прекрасное, полное благородной силы, про что он читал в книгах. Он был в том редком, счастливом состоянии, когда видишь, как твои мечты гордо выступают из потаенных уголков фантазии и становятся явью.
Никогда еще жизнь не возносила его так высоко, и он старался оставаться в тени, слушал, наблюдал, радовался и сдержанно, односложно отвечал: «Да, мисс» и «Нет, мисс» – ей и «Да, мэм» и «Нет, мэм» – ее матери. Отвечая ее братьям, он обуздывал себя, – по моряцкой привычке с языка готово было слететь «Да, сэр», «Нет, сэр». Так не годится, это все равно что признать, будто ты их ниже, а если хочешь ее завоевать, это нипочем нельзя. Да и гордость в нем заговорила. «Право слово, – в какую-то минуту сказал он себе, – ничуть я не хуже ихнего, ну, знают они всего видимо-невидимо, подумаешь, мог бы и я их кой-чему поучить». Но стоило ей или ее матери обратиться к нему «мистер Иден», и, позабыв свою воинственную гордость, он сиял и таял от восторга. Он культурный человек, вот так-то, он обедает за одним столом с людьми, о каких прежде только читал в книжках. Он и сам будто герой книжки, разгуливает по печатным страницам одетых в переплеты томов.
Но пока он сидел там – вовсе не дикарь, каким описал его Артур, а кроткая овечка, – он упрямо думал да гадал, как же себя повести. Был он отнюдь не кроткая овечка, и роль второй скрипки никогда не подошла бы этой благородной, сильной натуре. Говорил он, лишь когда от него этого ждали, и говорил примерно так, как шел в столовую: спотыкался, останавливался, подыскивая в своем многоязычном словаре нужные слова, взвешивая те, что явно годятся, но боязно – вдруг неправильно их произнесешь, – отвергая другие, которых здесь не поймут, или они прозвучат уж очень грубо и резко. И непрестанно угнетало сознание, что из-за этой осмотрительности, мешающей оставаться самим собой, он выглядит олухом. Да еще вольнолюбивый нрав теснили эти жесткие рамки, как теснили шею крахмальные оковы воротничка. Притом он был уверен, что все равно сорвется. Природа одарила его могучим умом, остротою чувств, и неугомонный дух его не знал покоя. Внезапно им овладевал какой-либо замысел или настроение и в муках стремились выразиться и обрести форму, и, поглощенный ими, он забывал, где он, и с языка слетали привычные слова, те самые, из которых всегда состояла его речь.
И когда за плечом у него опять возник докучливый слуга и, прервав его раздумья, настойчиво что-то предложил, Мартин сказал коротко, резко:
– Пау.
За столом все тотчас выжидательно насторожились, чопорный лакей злорадствовал, а Мартин едва не сгорел от стыда. Но тут же нашелся. И объяснил:
– Это по-канакски «хватит», само сорвалось. Пишется: «П-а-у».
Он уловил любопытство в задумчивом взгляде Руфи, устремленном на его руки, и, войдя во вкус объяснений, сказал:
– Я только-только сошел на берег с одного тихоокеанского почтового. Он опаздывал, и в портах залива Пюджет мы работали, грузили как проклятые смешанный фрахт – вы, верно, не знаете, каково это. Оттого и шкура содрана.
– Да нет, я не об этом думала, – в свою очередь, поспешила объяснить Руфь. – У вас кисти кажутся не по росту маленькими.
Щеки его вспыхнули. Он решил, она обличила еще один его изъян.
– Да, – с досадой согласился он. – Слабоваты они у меня. Руки, плечи – ничего, как видно, силища бычья. А дам кому в зубы, глядишь, и себе кулак разобью.
И сразу пожалел о сказанном. Стал сам себе противен. Распустил язык. Не к месту это, здесь так нельзя.
– Какой вы молодец, что пришли на помощь Артуру, заступились за незнакомого человека, – тактично перевела она разговор – и заметила, что он расстроен, хотя и не поняла почему.
А он понял, что она сказала это по доброте, горячая волна благодарности поднялась в нем, и опять он забыл, что надо выбирать слова.
– Чепуха! – сказал он. – Тут бы всякий за парня вступился. Эти бандюги перли на рожон, Артур-то к ним не лез. Они на него накинулись, а уж я – на них, накостылял будь здоров. Тогда и шкуру на руках ободрал, зато зубы кой-кому повышибал. Нипочем не прошел бы мимо. Я как увижу…
Он замолк с открытым ртом, едва не выдав, какая же он мерзкая тварь, едва не показав, что попросту не достоин дышать одним с нею воздухом. И пока Артур, подхватив рассказ, в двадцатый раз расписывал свою встречу с пьяными хулиганами на пароме и как Мартин Иден кинулся в драку и спас его, сам спаситель, нахмурив брови, размышлял о том, какого сейчас свалял дурака, и отчаянней прежнего бился над задачей, как же себя вести среди этих людей. Нет, у него явно ничего не получается. Он не их племени и языка их не знает, так определил он для себя. Подделываться под них он не сумеет. Маскарад не удастся, да и не по нем это – рядиться в чужие одежды. Притворство и хитрости не в его натуре. Будь что будет, а надо оставаться самим собой. Говорить на их языке он еще не умеет, но ничего, научится. Это он решил твердо. А пока, чем играть в молчанку, станет разговаривать как умеет, только малость поприличней, чтоб понимали и не больно возмущались. А еще не станет он, хотя и молча, делать вид, будто в чем смыслит, если на самом деле не смыслит. Так он порешил, и, когда братья, заговорив про университетские занятия, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин спросил:
– А это чего такое «триг»?
– Тригонометрия, – сказал Норман. – Высший раздел матики.
– А матика это чего? – последовал новый вопрос, и все засмеялись – на этот раз виной тому был Норман.
– Математика… арифметика, – последовал ответ.
Мартин кивнул. Ему приоткрылись беспредельные горизонты познания. Все, что он видел, становилось для него осязаемым. При редкостной силе его воображения даже отвлеченное обретало ощутимые формы. В мозгу совершалась некая алхимия, и тригонометрия, математика, сама область знаний, которую они обозначали, обратилась в красочную картину. Мартин увидел зелень листвы и прогалины в лесу – то в мягком полумраке, то искрящиеся на солнце. Издалека очертания были смутны, затуманены сиреневой дымкой, но за сиреневой этой дымкой ждало очарование неведомого, прелесть тайного. Он словно хлебнул вина. Впереди – приключения, дело и для ума и для рук, мир, который надо покорить; и вмиг из глубин сознания вырвалась мысль: покорить, завоевать для нее, этой воздушной, бледной, точно лилия, девушки, что сидит рядом.
Мерцающее видение было разъято на части, рассеяно Артуром, который весь вечер пытался заставить своего дикаря разговориться. Мартин Иден помнил о принятом решении. Он стал наконец самим собой, поначалу сознательно и расчетливо, но вскоре увлекся – и радостно творил, воссоздавал перед глазами слушателей ту жизнь, какую знал, какою жил сам. Вот он матрос на контрабандистской шхуне «Алкиона», перехваченной таможенным катером. Он смотрел тогда во все глаза и теперь может рассказать, что видел. И он рисует перед слушателями беспокойное море, и суда, и моряков. Он передает им свою зоркость, и все, что видел он, они увидели наконец его глазами. Как истинный художник, отбирал он самое нужное из множества подробностей и набрасывал картины жизни, пламенеющие светом и яркими красками, и наполнял их движением, захватывая слушателей потоком буйного красноречия, вдохновения, силы. Минутами их отпугивала беспощадная обнаженность его рассказа, грубоватая речь, но жестокость тотчас сменялась красотой, а трагедия смягчалась юмором, и перед ними открывались прихотливые повороты и причуды моряцкой натуры.
Он рассказывал, а Руфь не сводила с него изумленных глаз. Его жар разогревал ее. Неужели до сих пор она всегда жила в холоде, думалось ей. Хотелось прислониться к этому горящему ярким пламенем неистовому человеку, в ком, точно в вулкане, бурлили силы, энергия, здоровье. Так тянуло прислониться к нему, что она с трудом подавила в себе это желание. Но было в ней и другое желание – отшатнуться. Внушали отвращение и эти исполосованные шрамами, потемневшие от тяжелой работы руки, будто в них въелась сама грязь жизни, и красная полоса, натертая воротничком, и могучие бицепсы. Его грубость отпугивала. Каждое грубое слово оскорбляло слух, вся грубость его жизни оскорбляла душу. И все равно опять и опять к нему тянуло, и наконец подумалось: наверно, есть в нем какая-то злая сила, иначе откуда у него эта власть над ней. Все, во что она твердо верила, вдруг стало зыбким. Его необыкновенные приключения и постоянный риск сокрушали условности. Он так легко встречает опасности, так беззаботно смеется в лицо невзгодам, что кажется, жизнь вовсе не требует серьезных усилий и сдержанности, она – игрушка, которой можно забавляться, вертеть на все лады, беспечно порадоваться ей, а потом беспечно отбросить. «Так играй же! – кричало что-то в Руфи. – Прислонись к нему, раз хочется, обхвати обоими руками его шею!» Возмутительная, безрассудная мысль, но напрасно Руфь напоминала себе, что сама она воплощение чистоты и культуры и обладает всем, чего у него нет. Она огляделась и увидела, что все остальные смотрят на него точно зачарованные; Руфь пришла бы в отчаяние, не заметь она в глазах матери ужаса, смешанного с восхищением, но все-таки ужаса. Этот человек явился из тьмы и несет в себе зло. Мать понимает это, и значит, это правда. И она доверится суждению матери, как доверялась всегда и во всем. Его огонь уже не грел, и страх перед ним не пронизывал душу.
Позднее, за фортепьяно, она играла для него, наперекор ему, играла с вызовом, смутно желая подчеркнуть, как неодолима разделяющая их пропасть. Она обрушила на него музыку, словно беспощадные удары дубиной по голове, и музыка ошеломила его, подавила, но и подхлестнула. Он смотрел на девушку с благоговением. Как и она, ощущал, что пропасть между ними ширится, но еще того быстрее в нем росло стремление преодолеть эту пропасть. Однако слишком чуткий, слишком впечатлительный, не мог он просидеть весь вечер, уставясь в эту пропасть, да еще когда звучит музыка. Он был необычайно восприимчив к музыке. Словно алкоголь, она воспламеняла его чувства, словно наркотик – подхлестывала воображение и возносила над облаками. Она изгоняла низменную прозу жизни, затопляла душу красотой, возвышала, у него вырастали крылья. Той музыки, что играла Руфь, он не понимал. Совсем по-другому барабанили по клавишам в дансингах и ревела медь духовых оркестров, а ничего иного он не слыхал. Но в книгах что-то попадалось о такой вот музыке, и игру Руфи он принимал больше на веру, поначалу терпеливо ожидая певучей мелодии, ясного, простого ритма, озадаченный тем, что ритмы постоянно менялись. Вот он как будто уловил мелодию, расправил крылья воображения, а она тут же тонет в сумбуре враждующих звуков, которые ничего ему не говорят и возвращают на землю его утратившее легкость воображение.
В какую-то минуту ему подумалось, уж не хочет ли она оттолкнуть его этой музыкой. Он ощутил ее неприязнь и пытался разгадать, что же твердят ее пальцы, летая по клавишам. Потом отмахнулся от этой мысли, недостойной, невозможной, и уже свободней отдался музыке. В нем пробуждалась прежняя чудесная окрыленность. Тело стало невесомым, и весь он – дух, уже не прикованный к земле; и в нем и вокруг разливалось ослепительное сияние; а потом все окружающее исчезло, его подхватило, и он, качаясь, взмыл над миром, над бесконечно дорогим ему миром. Перед глазами теснились несчетные яркие картины, в них смешалось знакомое и незнакомое. Он входил в неведомые гавани омытых солнцем земель, бродил по базарам меж дикарей, каких еще никто никогда не встречал. Он вдыхал ароматы пряных островов, как бывало теплыми безветренными ночами в море или длинными тропическими днями, он лавировал в полосе юго-восточных пассатов среди увенчанных пальмами коралловых островков, утопающих в бирюзовом море позади и всплывающих в бирюзовом море впереди. Картины эти возникали и исчезали, быстрые как мысль. Вот верхом на необузданном скакуне он летит по сказочно расцвеченным пустынным просторам Аризоны; а через миг уже глядит сквозь мерцающий жар вниз, в Долину Смерти, в гроб повапленный, или плывет на веслах по стынущему океану, где высятся и сверкают под солнцем громады ледяных островов. Он лежит на коралловом атолле, где кокосовые пальмы подступают вплотную к воркующему прибою. Голубоватым пламенем горит остов давным-давно потерпевшего крушение корабля, и в отсветах женщины танцуют хулу, и раздаются варварские любовные клики певцов, поющих под звон укулеле и грохот тамтамов. Чувственная тропическая ночь. Вдалеке, среди звезд темнеет кратер какого-то вулкана. Над головой плывет бледный лунный серп, и низко в небе горит Южный Крест.
Мартин был точно арфа: все, что он в жизни узнал и что стало его сознанием, было струнами, а нахлынувшая на него музыка – ветром, бьющим в струны, и струны отзывались воспоминаниями и грезами. Он не просто чувствовал. Ощущения облекались в форму, цвет, сияние, а воображение, разыгрываясь, дерзко воплощало их в нечто возвышенное, волшебное. Прошлое, настоящее, будущее смешались; и Мартина несло, покачивая, по необъятному теплому миру через доблестные приключения и благородные дела, к Ней и с ней, да, с ней, и он завоевывал ее, и, обхватив одной рукой, влек в полет через королевство своей души.
И Руфь, глянув через плечо, увидела отблески этого на его лице. Лицо преобразилось, огромные глаза сияли на нем, и сквозь завесу звуков созерцали трепетный пульс жизни, исполинские видения, созданные самим его духом. Она поразилась. Грубый, нескладный невежа исчез. Плохо сшитое платье, руки в ссадинах, обожженное солнцем лицо остались, но казались теперь тюремной решеткой, из-за которой глядит великая душа, безмолвная, бессловесная, оттого, что не умеет выразиться вслух. То было мимолетное озарение, в следующий миг Руфь опять увидела перед собой неотесанного парня и посмеялась над прихотью своей фантазии. Но что-то от этого мимолетного впечатления осталось. И когда Мартину пришла пора уходить и он стал неуклюже прощаться, она дала ему почитать том Суинберна и еще Браунинга – слушая курс английской литературы, она занималась Браунингом. Он благодарил, краснея и запинаясь, и таким казался мальчишкой, что волна жалости поднялась в ней, жалости неодолимой, поистине материнской. Она уже не помнила ни неотесанного парня, ни плененную душу, ни мужчину, под чьим по-мужски жадным взглядом ей стало сладко и страшно. Сейчас перед ней был просто мальчишка. Шершавой, заскорузлой рукой он жал ей руку и говорил запинаясь:
– Самый замечательный день в жизни. Я… это… не привык я к такому… – Он беспомощно огляделся. – К таким вот людям, к домам… В новинку мне это… и нравится.
– Надеюсь, вы еще навестите нас, – говорила Руфь, пока он прощался с братьями.
Он нахлобучил кепку, смущенно, враскачку шагнул за дверь и исчез.
– Ну, что ты о нем скажешь? – тотчас спросил Артур.
– Необыкновенно интересен… Будто свежим ветром повеяло, – ответила она. – Сколько ему лет?
– Двадцать… почти двадцать один. Я его сегодня спрашивал. Мне-то казалось, он много старше.
«А я на три года старше», – думала она, целуя братьев и желая им спокойной ночи.
Глава 3
Мартин Иден спускался по ступеням, а рука сама сунулась в карман пиджака. Вынырнула с коричневой рисовой бумагой и щепоткой мексиканского табаку, искусно свернула цигарку. Он глубоко затянулся и медленно, неспешно выдохнул клуб дыма.
– Черт побери! – громко сказал он с благоговейным изумлением. – Черт побери! – повторил он. И еще раз пробормотал: «Черт побери!» Потом рука потянулась к воротничку, он сорвал его и сунул в карман. Моросил холодный дождик, а Мартин обнажил голову, расстегнул жилет и зашагал враскачку как ни в чем не бывало. Он едва замечал, что дождит. Восторженно грезил наяву, перебирал в мыслях все только что пережитое.
Наконец-то он встретил Женщину – он не часто думал об этом прежде, не склонен он был думать о женщинах, но такую ждал и смутно надеялся рано или поздно встретить. Сидел с ней рядом за столом. Жал ей руку, глядел ей в глаза и на миг увидал в них прекрасную душу… но нет, не прекраснее глаз, в которых светилась душа, не прекраснее плоти, в которую душа облечена. О плоти он не думал, и это для него было внове, ведь женщины, которых он знал прежде, вызывали в нем только плотские желания. А вот о ее плоти почему-то так не думалось. Словно тело ее не такое, как у всех, – бренное, подвластное недугам. Нет, оно не просто оболочка души. Оно – порождение души, чистое и благодатное воплощение ее божественной сути. Ощущение божественности ошеломило его. Спугнуло мечты и отрезвило. Никогда прежде не воспринимал он ни слов, ни указаний, ни намеков на божественное. Никогда он в божественное не верил. Он всегда был неверующим, всегда добродушно подсмеивался над судовыми священниками и их разговорами о бессмертии души. За гробом жизни нет, возражал он, живешь здесь, сегодня, а потом – вечная тьма. Но вот в глазах девушки он увидел душу, бессмертную душу, которая не может умереть. Никогда еще никто, ни мужчина, ни женщина, не заставил его задуматься о бессмертии. Только она пробудила эту мысль в первый же миг, первым взглядом. И вот он идет, и перед глазами чуть светится ее лицо, бледное и серьезное, милое и чуткое, улыбается милосердно и нежно, как способна улыбаться лишь фея, и такой оно сияет чистотой, какую он и вообразить не мог. Чистота эта сразила его, точно удар. И испугала. Он знавал и добро и зло, но даже не подозревал, что жизни может быть присуща чистота. А теперь в ней он постиг чистоту как высшее воплощение доброты и непорочности, которые вместе и составляют жизнь вечную.
И тотчас возникло честолюбивое желание тоже достичь вечной жизни. Он и воды-то этой девушке поднести не достоин, это уж точно; неслыханная удача, сказочное везенье позволили ему увидеть ее в этот вечер, сидеть рядом, говорить с нею. Все вышло случайно. Нет здесь его заслуги. Не достоин он такого счастья. Он готов молиться на нее. Теперь он смиренный, кроткий, полон самоуничижения и сознает собственное ничтожество. С таким настроением идут исповедоваться грешники. Конечно, он грешен. И как у смиренных и униженных в час покаяния нет-нет да и мелькнет перед глазами блистательная картина их будущего торжества, так и ему приоткрывалось будущее, которого он достигнет, завладев ею. Но что это значит – владеть ею, представлялось туманно, совсем не похоже на то, что он прежде понимал под обладанием. Он возносился на крыльях сумасбродного честолюбия, и вот он уже вместе с ней достигает невообразимых высот, делит с ней мысли, упивается всем, что есть прекрасного и благородного. Ее душой – вот чем он хотел завладеть, стремился к обладанию, очищенному от всего низменного, к свободному единению душ, но додумать это не умел. Не было у него таких мыслей. В сущности, он сейчас вовсе не думал. Чувство возобладало над разумом, и, весь дрожа, трепеща от неведомых доныне ощущений, он блаженно плыл по морю чувствований, где само чувство, восторженное и одухотворенное, возносилось над высочайшими вершинами жизни.
Он шел шатаясь, точно пьяный, и лихорадочно бормотал:
– Черт подери! Черт подери!
Полицейский на углу с подозрением уставился на него, потом распознал моряцкую походку.
– Где набрался-то? – резко спросил он.
Мартин Иден спустился с небес на землю. Натура у него была подвижная, он быстро ко всему приспосабливался, легко перевоплощался, смотря по обстоятельствам. Услыхав окрик полицейского, мгновенно очнулся, стал самым обыкновенным матросом.
– Вот ловко! – со смехом отозвался он. – Вслух говорю, а самому невдомек.
– Еще немного и запоешь, – определил полицейский.
– Не, нипочем. Дайте-ка огоньку, сяду сейчас на трамвай и домой.
Он закурил, попрощался и пошел своей дорогой.
– Надо же! – тихонько воскликнул он. – Этот обалдуй решил, что я пьяный. – Он улыбнулся про себя и задумался. – И верно, пьяный я, – прибавил он. – Вот не думал, чтоб поглядеть на женское лицо и такое с тобой сделается.
На Телеграф-авеню он сел на трамвай, идущий в Беркли. В вагоне полно было юнцов и молодых людей, они распевали песни, а время от времени хором что-нибудь выкрикивали. Мартин Иден с любопытством их разглядывал. Студенты университета. Учатся вместе с ней, из того же общества, может, и знакомы с ней, могли бы каждый день с ней видеться, только захоти. А надо же, не хотят, вот ездили куда-то развлекаться, чем бы провести этот вечер с ней, разговаривать с ней, сидеть вокруг нее, и восхищаться, и обожать. Мысль перекинулась на другое. Он приметил одного из толпы – глазки-щелочки, отвислая губа. Дрянь малый, сразу видать. На корабле стал бы трусом, слюнтяем, доносчиком. Нет, он, Мартин Иден, куда как лучше. При этой мысли он повеселел. Будто стал ближе к Ней. И начал сравнивать себя с этими студентами. Ощутил свое сильное мускулистое тело, – да, он наверняка покрепче будет. А вот головы ихние набиты знаниями, и они могут разговаривать с ней на ее языке. Мысль эта привела его в уныние. Но мозги-то у нас на что? – внутренне воскликнул он. Чего они смогли, то и он сможет. Узнавали про жизнь по книгам, а он-то жил вовсю, по-настоящему. Он тоже много чего знает, только совсем про другое. Есть ли среди них такие, кто умеет вязать узлы, стоять за штурвалом, на вахте? Жизнь его развернулась перед ним вереницей картин – опасности, риск, лишения, тяжкий труд. Он припомнил свои неудачи, передряги, в какие попадал, пока набирался ума-разума. Уж в этом он их превзошел. Рано или поздно им тоже придется зажить подлинной жизнью и хватить лиха. Очень хорошо. Покуда они будут проходить эту науку, он сможет изучать другую сторону жизни по книгам.
Трамвай пересекал местность, отделявшую Окленд от Беркли, дома здесь были редки, и Мартин глядел в оба, чтоб не прозевать знакомый двухэтажный домик с самодовольной вывеской «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». На углу Мартин Иден сошел. Задержался взглядом на вывеске. Она говорила ему больше, чем сами слова. Буквы и те выдавали самовлюбленное ничтожество, душонку, склонную к мелким подлостям. Бернард Хиггинботем был женат на сестре Мартина, и Мартин Иден хорошо его изучил. Он отпер дверь своим ключом и поднялся на второй этаж. Здесь обитал его зять. Бакалейная лавка помещалась внизу, в воздухе стоял запах гниющих овощей. Ощупью пробираясь по коридору, Мартин споткнулся об игрушечную коляску, брошенную кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом стукнулся о дверь. «Скряга! – пронеслась мысль. – Скаредничает, грошовую лампочку не зажжет, а квартирантам недолго и шею сломать».
Он нашарил дверную ручку и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Хиггинботем. Она латала мужнины брюки, а он, тощий, длинный, развалился на двух стульях, – со второго свешивались ноги в поношенных домашних туфлях. Оторвавшись от газеты, он взглянул поверх нее на вошедшего темными лживыми колючими глазами. При виде зятя в Мартине всегда поднималось отвращение. Никак не понять, что нашла в этом Хиггинботеме сестра. Этакое вредное насекомое, так и подмывает раздавить его ногой. «Ничего, когда-нибудь я еще набью ему морду», – нередко утешал себя Мартин, вынужденный терпеть его присутствие. Глазки зятя, злобные, точно у хорька, впились в него с неудовольствием.
– Ну, чего еще? – резко спросил Мартин. – Выкладывай.
– Эту дверь красили только на прошлой неделе, – угрожающе и вместе жалобно произнес мистер Хиггинботем. – А ты знаешь, сколько нынче дерут профсоюзники. Ходил бы поосторожней.
Мартин собрался было ответить, да раздумал – что толку связываться. Не задерживаясь взглядом на подлом, мерзком человечишке, он посмотрел на литографию на стене. И поразился. Прежде она всегда нравилась ему, а сейчас будто увидел впервые. Барахло – вот что это такое, как все в этом доме. Мысленно он вернулся в дом, откуда только что ушел, и увидел сперва картины, а потом Ее – пожимая ему руку на прощанье, она глядела на него так славно, по-доброму. Он забыл, где находится, забыл про Бернарда Хиггинботема, пока сей джентльмен не спросил: