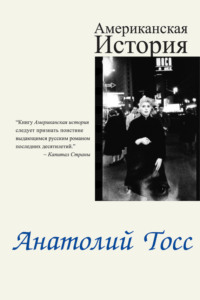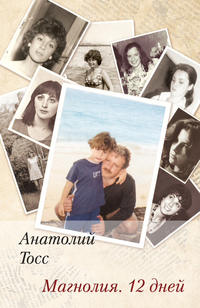Полная версия
За пределами любви
– Знаешь что, дочка, – сказала молодая красивая мама, – давай начнем жить по-другому.
Элизабет ничего не ответила, она не знала, как это «по-другому». Она еще внимательнее посмотрела на мать.
– Видишь ли, дочурка… – Мама присела к ней на кроватку положила руку на голову.
Элизабет вздрогнула от прикосновения, и тут же с Дининой руки на затылок пролилось расслабляющее тепло и разошлось по телу, не забыв ни одного даже самого маленького кусочка. Хотелось зажмуриться, но она не могла оторвать взгляд от маминого лица.
– Нам было с тобой тяжело все это время без папы, да? – сказала мама. Элизабет хотела ответить «да», но лишь кивнула. – Но тяжело не может быть постоянно. В какой-то момент привыкаешь, ведь так? Ведь много уже времени прошло, и мы должны жить дальше, понимаешь? – снова спросила мама, и Элизабет снова кивнула, хотя снова хотела сказать «да». – Я знаю, я уделяла тебе мало времени и мало внимания. Ты поймешь меня, если не сейчас, то позже, хотя я все равно виновата перед тобой. Но давай постараемся, чтобы теперь все было по-другому. Хорошо?
Почему-то мама каждый раз заканчивала предложение вопросом.
– Да, мамочка, – наконец ответила Элизабет. – Конечно, давай.
– Наши дни должны наполниться радостью. Ты уже большая девочка, и мы многое можем делать вдвоем, вместе. Например, у меня есть идея.
– Какая? – спросила Элизабет, все еще не понимая, о чем идет речь. Ей и в голову не приходило, что они с мамой живут как-то не так и что можно жить по-другому, лучше. Да и что такое лучше?
– У тебя ведь день рождения в августе. Вот и давай к нему подготовимся, давай, мы устроим маленький бал. Сошьем тебе праздничное платье, специальное, какое-нибудь очень нарядное. Все надо будет продумать, приготовить список гостей, угощения. Например, давай пороемся в кулинарных книгах, выберем необычный рецепт пирога, или лучше два рецепта, и научимся их готовить. Потом игры. Можно ведь придумать много игр, шарады… – мама задумалась, припоминая, какие еще бывают игры, – фанты, да мало ли что? Я уже не помню, во что любят играть дети. Вот нам и надо будет все придумать, может быть, ты с подружками сможешь какую-нибудь сценку из спектакля поставить. Такой маленький театр сделаем. Ну как?
– Конечно, мама, – опять согласилась Элизабет, все еще не понимая, что именно означают и неожиданный мамин тон, и ее не менее неожиданное предложение.
– Вот и хорошо, – улыбнулась Дина, наклонилась и поцеловала Элизабет в глазик, смяв мягкими губами реснички, щекотнув где-то у переносицы, так что нечто наподобие изморози ветвисто пробежалось у Элизабет по затылку, а потом растеклось ниже в сторону шеи.
Какие найти слова, чтобы описать, что она почувствовала? Маленькое затмение, будто что-то живое, трепетное и, без сомнения, любящее проникло через глазик в ее тело, и ей пришлось сжаться, втянуть голову в плечи, чтобы постараться не упустить это, удержать. Мамин поцелуй проник и растворился где-то у еще мгновение назад ровного сердца.
– Спокойной ночи, – сказала мама, и Элизабет думала, что она снова наклонится и поцелует ее, но мама поднялась и сделала шаг к двери.
– Спокойной ночи, мама, – ответила Элизабет и сладко поежилась, предвкушая сон, который уже давно подкрался и подкарауливал ее где-то поблизости.
Тем не менее она не заснула сразу. Она еще долго лежала с закрытыми глазами и сама чувствовала свою улыбку, и оттого, что улыбка безотчетна, что она сама, без ее, Элизабет, на то согласия пробралась на губы, от этого становилось еще более сладко. Именно сладко, как будто она съела большой кусок шоколадного торта с ванильным кремом и последний только что прожеванный кусок еще обволакивал, смазывал приторной патокой горло. А потом она стала мечтать, вернее представлять, как именно все произойдет в день ее рождения через три месяца: какие на ней будут платье и туфельки и как гости будут на нее глядеть с восхищением и любовью.
Обо всем об этом, да и о многом другом она теперь думала каждую ночь, прежде чем заснуть, каждый раз разыгрывая в своем воображении маленькие сценки, как бы рассказывая самой себе историю, которая, она знала точно, продолжится и следующей ночью, и той, что будет потом. Думать о предстоящем празднике было так приятно, что Элизабет даже стала раньше ложиться спать, на немного, минут на пятнадцать-двадцать. Зато какими красочными эти минуты получались!
Впрочем, мечтами наполнилась не только ее детская, уютная кроватка, но и каждое последующее утро, да и весь дальнейший день. Мама выполнила свое обещание: после их ночного разговора они вдвоем с Элизабет сели за стол с тетрадкой и ручкой и составили план подготовки к теперь уже долгожданному дню. Дел действительно набралось много, и с этого дня Элизабет была беспрестанно занята, развлекая не только себя, но и своих подруг разнообразными заботами, большинство из которых хоть и требовали внимания и сосредоточенности, но при этом вызывали радостное возбуждение.
В результате все отлично получилось, именно так, как и было задумано: платье отлично сидело на стройной фигурке Элизабет и необычайно шло ей. Угощения, которые в основном были придуманы и приготовлены самой Элизабет, конечно, не без помощи Дины, едва помещались в холодильник и ждали возможности перебраться на стол. Все приглашенные должны были приготовить номера для представления, и до Элизабет доходили слухи, что кто-то разучивает несколько забавных фокусов, кто-то исполнит песню под аккомпанемент пианино, кто-то, конечно же, прочитает стихи, и даже удалось поставить маленький спектакль, в котором главную роль получила сама Элизабет.
Решено было пригласить и нескольких взрослых, но и им не сделали поблажки, они тоже должны были выступить с номерами; в общем, все предвещало самый настоящий праздник, такой, которого еще не было ни у самой Элизабет, ни даже у ее многочисленных друзей.
Больше всего радости доставляла Элизабет подготовка к спектаклю. Надо сказать, что ей необыкновенно повезло. Дело в том, что к мистеру Свиллану, пожилому, вечно усталому доктору, который жил и практиковал в их небольшом городке, приехал из Нью-Йорка племянник. Этот племянник, высокий интересный мужчина по имени Рассел (он требовал, чтобы его называли именно так, без всяких «мистеров»), написал несколько пьес, которые шли в манхэттенских театрах не только на Бродвее, но и в драматических. Он планировал прожить у дяди все лето, лишь иногда ненадолго уезжая по делам в Нью-Йорк, и сам предложил написать маленькую пьеску специально для дня рождения Элизабет.
Более того, он вызвался ее поставить и раз в неделю репетировал с детьми; ему самому так нравилось возиться с группой трепещущих от ответственности и счастья мальчиков и девочек, что он приписал для себя дополнительную роль доброго волшебника, который несколько раз появляется в пьесе, когда главная героиня (Элизабет) попадает в наиболее комические (читай – затруднительные) ситуации.
Каждую репетицию Рассел превращал в веселый праздник, он вообще был мастер на разные выдумки и уморительные шалости, и дети не чаяли в нем души, особенно Элизабет, которой как исполнительнице главной роли и имениннице он уделял особое внимание. Как-то почти незаметно ему удавалось стереть грань между собой и детьми, видимо, он обладал особым талантом не только опускаться до их уровня, но и поднимать их до себя. Он дурачился вместе с ними, придумывал для каждого персонажа либо смешную рожицу, либо забавную походку, а потом с уморительным до колик серьезным видом воплощал в жизнь свои режиссерские находки. В результате дети легко забыли о его тридцати восьми годах, о его очевидном, особенно для их маленького городка, статусе знаменитости (ведь не в каждом городе проживает известный драматург, о котором не раз писали в газетах), и он постоянно был окружен ими – кто-то сидел у него на коленях, кто-то хватал его за ноги, дергал за руки, куда-то тащил, что-то стремился показать.
Рассел был высокого роста, с запоминающимся, выразительным лицом и пышной шевелюрой. Детям это было, конечно, безразлично, но их мамы, которые приводили детей на репетиции, а потом все вместе отправлялись в соседнее кафе, где баловались кофе с пирожными, бесконечно обсуждали Рассела, восторгаясь не только его внешностью, но и умением находить общий язык с детьми и способности переходить от бесшабашного веселья к серьезности, когда на лице выделялись внимательные, умные глаза, от светлой притягательности которых сложно было оторваться.
Мама Элизабет тоже, конечно, высказывала свое мнение о Расселе, и оно немногим отличалось от мнения остальных мам, ведь молодым женщинам не было и тридцати и никто из них не был обременен работой: в этом обеспеченном аккуратном городке семья вполне обходилась либо заработками мужа, либо, как в трагическом случае с Диной, страховыми выплатами, либо другими стабильными источниками доходов.
Конечно же, у Дининых подруг, как и у многих других женщин их возраста, положения и достатка, были нереализованные романтические стремления, к тому же, постоянно общаясь в своем тесном ограниченном кружке, они особенно живо реагировали на новые лица, особенно мужские, особенно интересные, не говоря уже о приезжей нью-йоркской знаменитости.
Не следует, однако, полагать, что кто-то из этих женщин, в основном занятых своими детьми, домом, ну и собой, конечно, мог бы воплотить свои романтические мечтания в жизнь. Маловероятно, что измена мужу как и другие решительные шаги, которые могли бы повлиять на дальнейший ход жизни, присутствовали в планах кого-либо из молодых дам. Конечно же, нет!
Но кто может запретить вечерние грезы за книжкой при притушенном свете, когда утомленный после рабочего дня супруг давно уже спит, а из комнаты детей доносится лишь ритмичное дыхание, и весь дом затих, словно и сам дремлет? Тогда чувство одиночества, отдавая смутным привкусом свободы, не может не обратить избалованного воображения в зыбкое пространство, где властвуют фантазии.
Впрочем, всегда существует дистанция между вечерними фантазиями и их реализацией. И если она не пройдена, а чаще всего она и не бывает пройдена, оставаясь всего лишь расплывчатой иллюзорной игрой разыгравшегося воображения, то можно через час присоединиться к мужу и заснуть спокойно у него на плече, согреваясь его застоявшимся теплом, и никакие угрызения совести не потревожат сладкий сон. Лишь, возможно, будет тянуть низ живота, но не отдаваясь болью, а наоборот, скорее успокаивающе.
В принципе для Дины, мамы Элизабет, никаких ни моральных, ни юридических запретов не было – она единственная из всех своих подруг была свободна для возможного романтического увлечения. К тому же мы можем только догадываться, в каком состоянии она пребывала: потеряв мужа три года назад, она все это время избегала новых знакомств, проявляя безусловную твердость, но в то же время лишая себя элементарного женского благополучия.
Но, в конце концов, сколько может себя сдерживать женщина, особенно если она привлекательна и если мужчины постоянно бросают на нее восхищенные взгляды, которых она не может не замечать? Не следует также забывать про нормальные сексуальные потребности, которые, если их долго не удовлетворять, вызывают раздражение и нервную, с трудом контролируемую ажитацию. А ведь в данном случае под словом «долго» понимается три томительных года!
Вполне вероятно, Дина тоже отметила представительного, вызывающего всеобщее восхищение драматурга. Были ли у нее мысли или планы приблизить его к себе, к своей дочери – мы не знаем. Но даже если и были, что с того?
А вот Рассел наверняка обратил внимание на незамужнюю красивую мамашу и, без сомнения, оценил ее.
Дело было даже не в ее красивом теле, которое, несмотря на стройность и плавные, округлые формы, как бы не вмещалось в сдерживающее его платье, как бы все равно выбивалось напоказ. А в том, что многолетнее искусственное самоограничение не могло не сказаться, и тело вопреки желанию самой Дины, даже и не подозревавшей о его предательской откровенности, было не только беззащитно открыто, но и как бы набухло от накопившегося нерастраченного желания, от нерастраченной нежности.
Итак, неделя катилась за неделей в шумной, возбужденной подготовке, и наконец настал день долгожданного праздника. Дом быстро заполнился, съехалось десятка четыре гостей, в основном подруги Элизабет с родителями, да приехали еще две-три приятельницы Дины с мужьями и детьми.
Можно, конечно, описать то счастливое волнение, которое владело Элизабет на протяжении всего вечера. Можно в подробностях остановиться на том, как восхитительно она чувствовала себя в пышном своем платье, как приятно было ей сознавать себя хозяйкой этого красивого, особенно сегодня, дома, встречая гостей у порога, принимая поздравления и подарки. Можно рассказать о спектакле, который прошел на «ура», и о том, как рассевшиеся в гостиной на специально взятых напрокат стульях зрители неоднократно прерывали постановку смехом и вздохами сопереживания, а под конец неистово рукоплескали.
А участники спектакля, и прежде всего Рассел, который всегда находился поблизости, выталкивали ее, Элизабет, в центр, так что все могли видеть ее пунцовые от восторга щеки и блестящие, сияющие от счастья глаза. И она склонялась в поклоне, а аплодисменты не сбавляли накала, и ей ничего не оставалось, как попытаться спрятаться внутри вытянувшегося позади нее ряда исполнителей, но она натыкалась на него, и ее снова выталкивали навстречу зрительному залу, который сейчас представлялся ей единым огромным добрым существом, все продолжающим громыхать и громыхать.
Да, можно сказать, что Элизабет была абсолютно, безусловно счастлива в тот день, как может быть счастлив семилетний ребенок. И все же не спектаклем, не подарками, не угощениями и не общим успехом запомнился он ей.
Он запомнился ей тем, что мама выглядела совершенно иначе, не такой, какой Элизабет ее знала и к которой привыкла. И в тот вечер Элизабет впервые догадалась, что их жизнь, та, что началась со дня трагической гибели папы, закончилась. И что теперь их обеих ожидает иная, новая жизнь. Какая – Элизабет не знала.
Вместе с Элизабет мама встречала гостей в коридоре, из него несколько дверей вели в комнаты первого этажа. Она была в специально сшитом к этому дню платье (они вместе ходили к портнихе и обсуждали наряды друг друга, как настоящие подруги), и оно, плотно облегая ее гибкое округлое тело, расходилось книзу широкими элегантными складками.
Дине вообще шли светлые тона, ее каштановые волнистые волосы, карие глаза и немного смуглая, будто загорелая, гладкая, казалось, даже от взгляда лоснящаяся кожа только выигрывали от контраста со светлыми оттенками. Вот и в тот день платье, даже не светло-голубое, а скорее лазурное, впитывало воздух и только подчеркивало плавность легких маминых движений.
И тем не менее Элизабет чувствовала затаенное напряжение в глубине маминого голоса, ее взгляда. Оно как бы невзначай прорывалось и то тут, то там образовывало сгустившуюся массу взволнованного ожидания.
Часть гостей уже съехались, у стены в углу уже громоздилась небольшая горка подарков – коробки, упаковки, свертки, вазы были переполнены цветами. Да и весь дом уже гудел веселым шумом, и Элизабет, конечно же, хотелось сорваться и побежать в комнаты, где резвилась дюжина детей, но она сдерживала себя – ответственная роль хозяйки, которую она сейчас играла, не допускала детской шаловливости.
А тут к тому же дверь открылась и на пороге появился мистер Рассел, то есть просто Рассел, и Элизабет даже запрыгала от восторга – не то что она ждала его больше других, но когда увидела, радость теплой волной растеклась по ее телу и наполнила, и стало сразу тепло, так что покраснели щеки и даже, как ей показалось, шея и руки.
Она могла бы сдержаться – но зачем? И она рванулась к большому, пахнущему хорошими духами человеку, который всегда был так добр к ней и так жизнерадостно весел, и обхватила его, и прижалась головкой к его тугому спортивному животу.
– Рассел! – закричала она, как будто он был далеко и мог не услышать. – Я должна тебе что-то сказать… про спектакль… Я придумала, что там, когда я попадаю на гору и говорю: «Ну как же мне спуститься?..» – я придумала, что мне надо поднести руку к глазам, вот так, козырьком, и оглядеться вокруг, как будто я ищу тропинку. – Элизабет подняла голову и посмотрела на улыбающегося мужчину снизу вверх доверчиво и восторженно, как всегда смотрят дети на людей, к которым привязаны или готовы привязаться. – Как ты думаешь, я здорово придумала? Потому что иначе…
– Конечно, здорово, – охотно согласился Рассел и положил широкую ладонь на ее светлую головку и ласково прошелся по волосам, перебирая пальцами легкие кудри. – Именно так и надо сделать, молодчина, здорово придумала. А сейчас посмотри-ка сюда.
И когда Элизабет отстранилась немного, он вынул из внутреннего кармана своего темно-коричневого пиджака маленькую коробочку и протянул ее имениннице. Коробочка была узкая, длинная, завернутая в подарочную яркую бумагу и перевязанная золотой лентой.
– Можно открыть? – спросила Элизабет и невольно оглянулась на мать, как бы ожидая ее поощрения.
– Конечно, – услышала она мужской голос сверху, но он не был уже важен сейчас.
Мамино лицо – вот что было важно. Такого открытого выражения радостного ожидания, которое Дина не сумела скрыть, да и не пыталась, Элизабет не видела никогда прежде. Как будто через минуту, да что там минуту – секунду, мгновение что-то непременно должно произойти, что-то неизвестное, но необыкновенно хорошее. Элизабет даже стало неловко за маму, за ее очевидную беззащитность, за излишнюю доверчивость, которой, это ведь было очевидно, так легко воспользоваться. Как и для чего – Элизабет не знала, но вид неуверенной мамы, ее неприкрытое, выставленное напоказ ожидание неприятно кольнул. Элизабет проследила мамин взгляд, как будто скользнула по протянутой нитке, и легко соединила его с глазами Рассела, которые не отражали, а принимали его, впитывали в себя.
– Да-да, Лизи, конечно, открой, – наконец сумев оторвать взгляд от Рассела и перенеся его на дочь, ответила Дина. – Конечно, посмотри, что тебе подарил мистер Рассел.
Элизабет развязала бантик золотой ленты, сорвала подарочную упаковку и стала рассматривать изящную продолговатую коробочку из черного бархата. Она и не думала ее открывать, ей и в голову не пришло, что эта роскошная коробочка могла еще что-то таить внутри – она сама по себе завораживала, сама по себе была чудесным, драгоценным подарком.
– Открывай, солнышко, – поторопила ее мама и подошла ближе, так что Элизабет услышала запах ее духов, и они, смешавшись с запахом мужских духов, которым только что была окутана Элизабет, создали непонятно тревожащую волну, как будто было что-то неприличное в переплетении этих двух таких разных, как бы спорящих друг с другом запахов.
– Давай посмотрим, что там внутри, – сказала мама и присела, склонившись к Элизабет; теперь их волосы соприкасались.
И Элизабет опять неприятно кольнуло то, как мама присела, как манерно, ненатурально, будто в заученном балетном движении подогнулись ее ноги, как волной опустилось на пол, образовав на нем складчатый обруч, лазурное платье. А еще Элизабет стало неприятно оттого, что совсем рядом, прямо перед ними возвышался мужчина, конечно, очень знакомый, но все равно очень чужой. И что-то было неловкое в том, как застыл борт его плотного твидового пиджака, почти соприкасаясь с маминым лицом.
А потом мама тоже подняла глаза вверх, как совсем недавно ее дочь, пытаясь там, наверху, снова встретить мужской взгляд и снова уйти в него, растечься в нем, и от этого Элизабет снова почувствовала неловкость за мамину еще более подчеркнутую беззащитность перед чужим взглядом сверху, перед крупной, тяжелой ладонью, которая по-прежнему поглаживала легкие кудри на головке Элизабет.
Ей вдруг почудилось, что она присутствует при заговоре, будто эти двое взрослых, но особенно мама, самая надежная и близкая мама, сговариваются между собой без ее, Элизабет, ведома. Более того, они пытаются скрыть от нее свой сговор.
Она уже хотела отойти в сторону, но тут ее пальчики сами надломили коробочку, и та открылась, и Элизабет вскрикнула от неожиданности, но и от радости тоже. Внутри, извиваясь плавными линиями, покоилась цепочка из белого тяжелого металла, на которой, охваченный загибающимися лепестками, ярче белого блестел ровный жемчужный камушек.
– Можно, я тебе сам надену, Лизи? – услышала она голос Рассела; она и не заметила, как он тоже опустился к ним, и теперь их головы находились совсем рядом – ее, мамина и Рассела. И уже не было ничего неприятного и беспокойного в их близости, все было естественно и правильно, и Элизабет кивнула, все еще не в силах оторвать взгляда от сверкающей белой линии на черном бархатистом сукне.
– Вы балуете девочку, мистер Рассел. К чему такие дорогие подарки? – спросила мама, но Элизабет не услышала в ее голосе ни недовольства, ни разочарования. Ей показалось, что мама счастлива не менее ее самой, и от этого все едва зародившиеся обиды мгновенно покинули сердечко Элизабет. А осталась только родная, любимая мама, всегда веселый Рассел и сверкающий подарок на черном бархате.
Элизабет повернулась к Расселу спиной, вытянула шейку, чуть напрягла ее в ожидании холодного металлического прикосновения. Дочь ловила взгляд близких маминых глаз, и ей легко удавалось разглядеть в них не только любовь, но и восторг, даже гордость за свою хорошенькую, послушную девочку, которая была точным повторением ее самой, разве что волосы чуть-чуть посветлее. И сейчас, наверное, Дина вспоминала какой-нибудь свой далекий день рождения, когда она сама была ребенком и была беззаботно счастлива, как уже не могут быть счастливы взрослые. Вспоминала, как смотрели на нее родители, молодые тогда, полные любви и надежд, вот как она сейчас.
Наконец Элизабет перестала чувствовать прикосновение мужских пальцев на своей шее и тут же, будто спущенная с привязи, рванулась в комнату к зеркалу. И уже там, в комнате, услышала окрик матери, но не одергивающий, а задорный, пропитанный почти несдерживаемым смехом.
– Лизи, – крикнула ей вдогонку мама, – а поблагодарить? Кто будет благодарить мистера Рассела за подарок?
Ах да, вспомнила Элизабет и так же стремительно, как только что сорвалась с места, подбежала к по-прежнему сидящему на корточках, будто именно в ожидании ее, Расселу.
– Спасибо, Рассел! – И она обхватила его ручками за голову и снова прижалась, но лишь на секунду, чтобы сразу отстраниться.
– И все? – засмеялся довольный Рассел. – А поцелуй именинницы? – И он пальцем потыкал себя в щеку, указывая место для поцелуя.
Элизабет мельком взглянула на мать. Дина улыбалась поощрительно немного смущенной, немного наигранной улыбкой невольной свидетельницы.
Так же стремительно, как и до того, Элизабет обхватила большую голову и уткнулась губами в непривычную мужскую, впрочем, совсем не жесткую, а гладкую и податливую щеку, награждая Рассела звонким поцелуем. Взрослые засмеялись, а мама повторила:
– И все-таки, мистер Рассел, зачем вы сделали такой дорогой подарок? Это совершенно ни к чему…
Она продолжала бы говорить, но Рассел, которого Элизабет все еще держала за шею, прервал ее:
– Дина, я ведь просил называть меня просто по имени, без всякого «мистер». Вы же мне обещали. Давайте пообещайте мне еще раз, в присутствии свидетельницы. Лизи, ты готова стать свидетельницей? – перевел он взгляд на Элизабет. Та кивнула.
– Хорошо-хорошо, – улыбнулась мама, – я обещаю.
– Нет, прямо сейчас скажите: «Рассел». Да, Лизи? Пусть мама скажет.
– Конечно, мама, скажи, я ведь его тоже так называю. Все дети на репетициях зовут его Расселом, и ничего.
– Но я же не дитя и не на репетиции, – сквозь смех проговорила мама, и Рассел тоже засмеялся.
– Тем более, – заметил он. – Давайте, Дина, мы с Элизабет требуем. – И он заговорщицки посмотрел на девочку.
– Хорошо-хорошо, Рассел, – наконец согласилась мама. – Обещаю впредь называть вас только по имени.
– Ну что, я могу идти? – нетерпеливо спросила Элизабет и, получив мамин утвердительный кивок, бросилась в комнату, оставив взрослых наедине.
Как уже было сказано выше, праздник прошел великолепно. Спектакль зрители восприняли на «ура», за столом тоже было весело, почти все гости подготовили выступления: кто-то читал поздравление в стихах, кто-то шутил, две девочки, подружки Элизабет, даже сыграли на пианино специально разученную пьеску, для которой сами написали стихи, так что получилась вполне милая песенка. Потом были игры, которые Элизабет с мамой заранее придумали, а потом сладкий стол с двумя тортами, приготовленными не без участия самой Элизабет.
В общем, все было замечательно, и даже не потому, что пришлось по вкусу угощение, и не потому, что игры увлекли всех, даже взрослых. А просто то ли от счастливого личика Элизабет, от ее блестящих глаз и разрумянившихся щечек, то ли от общего ощущения праздника в воздухе, как будто разбрызгали легкий фрагранс, отчего он, не потеряв своей светлой прозрачности, пропитался напряженным ожиданием, набух и теперь сам осыпал пыльцой возбуждения и взрослых, и детей… Возможно, от всего этого, а может быть, от чего-то другого, но веселье и непринужденность наполнили весь вечер, и Элизабет, лишь на секунду отвлекаясь, бросала взгляд на маму и даже иногда подбегала к ней, хватала за руку и тащила показать что-то очень важное, что, если не разделить его с мамой, казалось, не только перестанет иметь значение, но вообще прекратит существование. И утаскивала, и Дина, беззвучно смеясь и пожимая беспомощно плечами, оглядывалась на Рассела, который, так уж получалось, всегда оказывался рядом с ней, и тот улыбался в ответ, и улыбка могла означать многое, но, конечно, прежде всего участие и понимание.