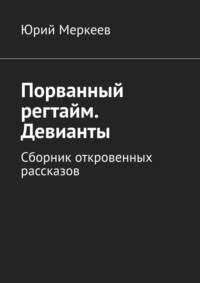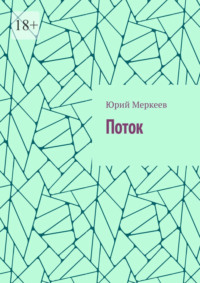Полная версия
Черный квадрат Чаликова

Черный квадрат Чаликова
Юрий Меркеев
© Юрий Меркеев, 2017
ISBN 978-5-4474-5494-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Черный квадрат Чаликова
Подоспела черная полоса в жизни художника Чаликова к самому, казалось бы, плодоносящему возрасту мужчины и творца – к тридцать третьему году жизни, десять из которых Чаликов честно посвятил музе. Подоспела эта полоса и как-то быстро и незаметно изъела его душу изнутри, как это бывает с красивым снаружи яблоком, испорченным червями.
Не отличался Сергей Иванович никогда твердостью характера, терпением, и стоило только на российских просторах загулять заморским буйным ветрам горбачевской «перестройки» и ельцинского лихолетья, как Чаликова вместе со многими талантливыми, но слабыми душевно собратиями по искусству закрутила жизнь, разметала по разным «тараканьим» углам, хмельным закоулочкам, забирая у него большими кусками то, что казалось ему бесплатным подарком от бога в вечное чаликовское пользование.
В ельцинские времена, когда среди всеобщего обнищания стали вдруг появляться весьма состоятельные и мало интеллигентные сограждане, прозванные в просторечье «малиновыми пиджаками», Чаликов еще кое-как держался на поверхности жизни, барахтаясь своими слабенькими ручонками и цепляясь, буквально говоря, за мертвецов – разукрашивал по ночам в морге лица покойников, в основном – жен богатых бандитов, политиков и коммерсантов. От страха пил с патологоанатомом медицинский спирт, и, пока в Чаликове еще оставалась капля творческого авантюризма, воображал себя не продажным художником, а древнеегипетским жрецом, вступившим в тайный сговор с богом Анубисом для того, чтобы с достоинством фараонов провожать помиравших соотечественников в вечность. На самом же деле в морг он попал по протекции одного спившегося художника и согласился подрабатывать там от нищеты.
Более крепкие, наглые и молодые его коллеги вытеснили Чаликова с Большой Покровской, где он с легкостью умелого портретиста в десять – пятнадцать минут переносил угольными карандашами лица заказчиков на бумагу. В первый раз к нему подошли накаченные молодые люди с плоскими как у боксеров лицами и вежливо попросили уступить место другому художнику. Во второй раз они же встретили его в темной подворотне, слегка потрепали его и предупредили, что, если он не уйдет с Покровки, они сломают ему сначала правую руку, рабочую, а если не поможет, отправят его туда, откуда еще никто не возвращался. Чаликов все понял и устроился на время пятимесячного запоя знакомого художника в морг «трупным косметологом – кутюрье».
Чуть позже пробовал он себя и в кузнечном деле, изготавливал ручной работы кованые железные розы – прихоть богатых заказчиков, – и фамильные гербы, но скоро кузницы наполнились крепкими выносливыми деревенскими парнями, которые, точно роботы, без устали шлепали конвейерным способом по одним и тем же незатейливым эскизам металлические заборы и решетки на окна для особняков новых богачей. Востребована стала грубая физическая сила, которой у Чаликова никогда не было, а не художественный талант, который всегда был.
И стал от такой жизни Чаликов пить. Пил долго, зло, со страданиями, свойственными утонченным натурам; заводил сомнительных друзей, которые терпеливо выслушивали жалобы на жестокую жизнь, а потом пропадали, а вместе с ними почему-то исчезали из бедной квартиры Чаликова бронзовые подсвечники, алюминиевые кастрюли, тазы, даже ложки с вилками; улетали ковры – остатки былого безбедного существования; последним вместе со случайными знакомыми ушел старичок – телевизор «Чайка», который уж и так на ладан дышал. Зачем он мог понадобиться кому-то, Чаликов ума не мог приложить. И тогда в опустевшей квартире художника поселилась нищета, о которой раньше он знал лишь умозрительно – из рассказов Горького, Чехова, Бунина.
Ничего не осталось у Чаликова, кроме изъеденной злой нуждой совести. И то немногое, благородное, что еще как-то отличало его от опустившихся пьяниц, стало потихоньку сходить на «нет». Ознаменовал в материальном смысле его окончательное падение флакончик «Тройного» одеколона, который был найден неопохмеленным трясущимся Чаликовым на полочке в прихожей около треснутого зеркала. Прежде чем выпить его, Чаликов посмотрел на свое больное, распавшееся на две половинки отражение, и заключил, что жизнь его дала трещину, которую трудно чем-то заклеить, заретушировать, замазать, загрунтовать. Треснутое зеркальное лицо Чаликова отражало рубец в его душе. Он вылил содержимое пузырька одеколона в стакан, горестно ухмыльнулся, чокнулся со своим отражением и залпом без закуски выпил, после чего почти сутки его обожженное нутро извергало запахи цветочной оранжереи.
А потом Чаликов стал по утрам тщательно бриться, расчесывать волосы и повязывать ворот рубашки галстуком, но делал это вовсе не из желания хотя бы внешне выглядеть интеллигентом. Так ему было проще обманывать библиотекарей и воровать книжки. Продавал он их на рынке за бесценок лоточникам – мясникам, грубым, наглым, ощутившим себя вдруг хозяевами жизни, любившим посмотреть на чужое унижение, особенно если унижался какой-либо худосочный интеллигент вроде Чаликова. Они знали, что он – бывший художник, а, значит, человек не их круга. И потому пресмыкание Чаликова было им особенно приятно. Они относились к нему, как к цирковой собачке, которая была готова ради кусочка мяса прыгать пред ними на задних лапках, развлекать, сносить плевки и побои. К слову сказать, настоящих собак, которые забегали на рынок в поисках кормежки, мясники почему-то баловали, кидали им кусочки отборного мяса, особенно если торговля шла бойко. Они будто бы показывали сами себе, что они – люди не жадные. Однако, людей – попрошаек они презирали. Бывало, что худенькая старушка, дрожащими руками пересчитывающая у них на глазах последнюю мелочь, просила уступить ей подешевле какую-нибудь требуху, а мясники, смеясь, отгоняли ее, будто она была не человеком, а какой-нибудь назойливой мухой. Такие были времена, такие нравы!
А однажды Чаликов увидел сцену расправы над молодым пареньком, наркоманом, который пытался обмануть мясников поддельной милицейской корочкой и уже успел собрать с некоторых лотков мясную дань, как вдруг одна из краснолицых торговок узнала в «милиционере» своего соседа – наркомана. Поднялся крик, гам, мясники плотным кольцом обступили худосочного паренька, рубщик Григорий схватил обманщика за тонкие плечи, а другие мясники стали бить его кулаками в лицо. Чаликову были слышны хлесткие удары, голова бедняги отлетала в сторону при каждом шлепке, у мясников появился азарт, и скоро лицо наркомана превратилось в кровавое месиво. Кровь была кругом – на заляпанных фартуках лоточников, на лице наркомана, на кулаках мясников, на полу, повсюду. А паренек, видимо, от шока, вцепился в пакет с кусками отборного мяса, собранного, якобы, для милиции, и не отпускал его, пока мясники его дружно лупили. От этой жестокой сцены у Чаликова закружилась голова, и он поспешил уйти с рынка, так и не узнав, чем закончилась эта кровавая разборка. Потрясение Чаликова от этой сцены было так велико, что несколько ночей подряд его потом мучили кошмары: ему мерещилось, что его загнали в какой-то гигантский черный квадрат, из которого нет выхода, и что во всех углах этого квадрата скрывались люди, похожие на рыночных мясников. Они считали себя хозяевами жизни, хозяевами черного квадрата, и того, кто случайно попадал в него, они старательно унижали, окунали в самую черноту и жестоко издевались, как над тем худосочным юношей – наркоманом, который пытался их обмануть. Вся его худая неприкаянная жизнь стала казаться Чаликову огромным черным квадратом, из которого он никак не мог найти выхода.
Бедный, бедный Чаликов! Некому было в ту пору его вразумить, поддержать, настроить на иной, более терпеливый и добрый взгляд жизни. И он продолжал воровать книги и библиотек, борясь со стыдом и страхом, но благодаря тому же стыду и страху не решаясь совершать кражи более опасные и дерзкие.
По утрам он приводил себя в порядок перед треснутым зеркалом, надевал широкий отцовский плащ и отправлялся в одну из пяти районных библиотек города, в которые он специально записался для своего воровского промысла. Две – три книжечки он записывал в библиотечную карточку, а пять или шесть книг выносил под плащом, утыкая их за кожаный ремешок штанов вокруг талии, делая его похожим на пояс шахида. Хорошо, что отец и мать Чаликова не дожили до позорных дней сына, иначе умирание их было бы безутешным. Родители не успели застать горбачевскую перестройку и умерли с уверенностью в блестящем будущем страны и молодого живописца Сергея.
Для того, чтобы библиотекари (чаще всего – молодые девушки) не подозревали его в кражах, он записывал в формуляре профессию «художник», а в графе «место работы» всегда ставил «реставратор православных церквей». Под запись Чаликов обычно отбирал книги по искусству, – уж в этом он разбирался хорошо, – а для мясников воровал красочно оформленные любовные романы, детективы и классику: Толстого, Гоголя, Достоевского и др. Мясники любили пофорсить перед спившимся интеллигентом своими познаниями в литературе, показать ему, что и они, мол, не лыком шиты, и разбираются в русской классике не хуже, чем в мясе. «Великих и прославленных» они брали не скупясь. Первую и семнадцатую страницы с библиотечными штампами Чаликов всегда удалял, однако никто из мясников и не подозревал о том, что книги, приносимые Чаликовым на продажу, были библиотечные. Как правило, никто из них и не заглядывал внутрь книг. Покупали по сути дела обложки с фамилиями великих. Однажды Чаликов, не сумев ничего украсть из библиотеки, нашел простой выход: вложил в обложку из-под «Войны и мира» работы Маркса и Энгельса, аккуратно подклеил корешок и благополучно сбыл мяснику Анатолию как полную версию знаменитого романа Льва Николаевича Толстого. И сколько раз после этого Чаликов ни заходил к мясникам, Анатолий продолжал общаться с ним как обычно; стало быть, Анатолий поставил купленную книгу в доме на полку, и никто из его семьи ее ни разу не открывал. И, возможно, никогда не откроет. Таким нехитрым способом Чаликов мстил мясникам за свое унижение, за поруганное достоинство и уязвленную честь.
Однажды Чаликов набил свой «пояс шахида» томами крупными и тяжелыми, как кирпичи, и, подходя к столу библиотекаря Вари с двумя брошюрками по японскому искусству, испугался вдруг, что она заметит его неестественно располневший торс, и, обильно потея и покрываясь густой краской стыда, заставил себя улыбнуться и, стараясь держаться естественно и даже немного фамильярно, заговорил первое, что пришло ему в голову:
– Знаете, Варенька, хоть я и работаю реставратором в церкви, но всегда уважал японскую живопись. Увидеть в малом большое – это великое искусство. Особенно мне нравится стиль «дзуйхицу». – Руки у него дрожали, когда он расписывался за книги в карточке. – В переводе с японского это означает «следуя за кистью», – продолжал он заговаривать зубы библиотекарю, стараясь не встречаться с ней взглядом. – Это очень хороший стиль. Просто берешь в руки кисть и выражаешь свое настроение. Да… Наше настроение – это целая гамма различных цветов.
Варя, как показалось Чаликову, пристально вглядывалась в его лицо, краснеющее с каждой секундой все больше и больше. Вот-вот спросит его: «А какое же сейчас у вас настроение, Чаликов? Багрово – красное? Отчего это?»
Однако девушка сказала:
– Сергей Иванович, вы очень интересный человек. Знаете, сейчас мало кто ходит в библиотеку. Люди перестают интересоваться книгами. У всех на уме одни деньги. Да вот кто-то еще повадился книжки у нас воровать. Представляете?
– Мда… – Чаликов почувствовал, как у него пылают уши. Провалиться бы сейчас сквозь землю! Пот градом тек по его лицу. Ему показалось, что Варя уже давно догадывается, кто тот подлец, который ворует книги, и только оттягивает обвинение, решив прежде помучить его.
– Сергей Иванович, – окликнула она стоящего в оцепенении Чаликова.
– Да? – выдавил он из себя.
– По мнению всех наших коллег и, особенно, заведующей Нины Федоровны, вы…
– Да?! – испуганно вскрикнул Чаликов.
– Вы самый читающий человек района. Поэтому мы решили пригласить вас, как нашего постоянного читателя и интересного человека, на юбилейный вечер библиотеки. Мы бы хотели, чтобы вы выступили перед детской аудиторией с небольшой лекцией на тему «За что я люблю книги?». Потом будет чаепитие и шампанское для своих.
Чаликов был ни жив, ни мертв. «Пояс шахида» тянул его к земле с такой силой, что, казалось, еще минута, и Чаликов рухнет, словно подкошенный, прямо под стол библиотекаря.
– Ну что же вы молчите? – спросила Варя. – У вас много работы?
Чаликов в отчаянии взглянул на девушку.
– Да, да, у меня… оч-чень много раб-боты, – запинаясь, ответил он. – Заказали новый иконостас в Рождественском храме, потом нужно расписывать Царские Врата. Работы много.
– Ну что ж, может быть, тогда в другой раз?
– Да. В другой раз обязательно приду и прочту лекцию. Обязательно.
Чаликов вышел из библиотеки едва живой. И тут же направился к самогонщикам просить в долг бутылку. Оправившись от нервного потрясения, он подумал: «Не зря в народе говорят, что на воре и шапка горит. Точно. Уши пылают как фитили».
…А через неделю Чаликова поймали с поличным в другой библиотеке – томик Достоевского, сунутый «лучшим читателем района» за пазуху, выскользнул из-под ремня и с шумом треснулся на пол. Когда вызвали милицию, и оперативный работник увез Чаликова в отдел, ему стало легче от того, что мучения его прекратились. Однако… Увы, нравственное падение Чаликова продолжилось – уже в кабинете Василия, оперативного работника, который после нарисованных Чаликову картин его унизительной жизни в зоне, неожиданно предложил помощь – в обмен на согласие стать агентом Василия.
– Кражу мы тебе эту простим, – ласково вещал перед потерявшим всякую волю мыслить Чаликовым крепкий Василий с хитрым и умным лицом. – Будешь один раз в месяц приходить на конспиративную квартиру и докладывать мне обо всем, что услышишь от друзей – алкоголиков. Ясно? Кто что украл, кто задумал что украсть и так далее. За это я буду расплачиваться с тобой когда деньгами, когда спиртным.
Оперативник нырнул под стол и вытащил оттуда бутылку «Пшеничной».
– Пей, – сказал он, наливая водку в стакан. – Водка паленая, но неплохая. У меня для хороших агентов водка всегда есть. Усек?
Чаликов вяло кивнул и выпил. Затем Василий попросил его расписаться в какой-то бумажке и выдал Чаликову сто рублей.
– Твой агентурный псевдоним будет… м-м… Рафаэль. Ты же художник? Никто о наших отношениях знать не должен. А то, сам знаешь, уголовники такое не прощают. Сделают из тебя мадонну. Василий громко захохотал над своей шуткой.
Чаликову хотелось плакать. И хотелось домой. Он робко указал глазами на початую бутылку.
– Можно это с собой забрать?
– Молодец, – похвалил его оперативник. – Это по-нашему. Бери бутылку и иди домой. О нашем разговоре – никому, даже Господу Богу. В библиотеках больше не появляйся. Чаще появляйся в притонах, на пятаках, прислушивайся, приглядывайся. Будешь хорошо работать, нужды знать не будешь. На мелочевке попадешься, отмажу. Запомни: моя фамилия Пригожин, оперуполномоченный уголовного розыска. Василий Пригожин. Будут проблемы, позвонишь, Рафаэль…
Чаликов жалобно взглянул на милиционера.
– Ну, ладно, ладно. Иди домой. Намучился, знать, с непривычки. Все мы люди. Понимаю я тебя, брат. Нынче время не для таких как ты. Пропадешь, если не научишься кусаться. Хочешь, совет дам? Никогда ни перед кем не пресмыкайся. Народ сейчас злой. Слабого не пожалеют. А пресмыкающегося будут топтать. Извини, брат, за такую примитивную психологию. Дальше будет еще хуже.
Чаликов поблагодарил милиционера за помощь и вышел. Отныне он стал не просто мелким воришкой Чаликовым, спивающимся от нужды и нечистой совести. Отныне он стал Рафаэлем, человеком без имени и без воли, рабом, клейменым печатью иудиного ремесла. Он стал половой тряпкой, о которую всякий, более сильный и наглый, мог вытереть грязную обувь.
И жизнь Сергея Ивановича, и без того непутевая, превратилась в сущий ад. Он продолжал пить, и теперь его пьянки раз от раза становились все отчаяннее и горше, потому как заливать вином приходилось новые муки еще не омертвевшей окончательно совести – муки иудиных доносов, вознаграждаемых не тридцатью сребрениками, а конфискованной у самогонщиков водкой, которую он выпивал вместе с теми, на которых тайно доносил. Черный квадрат всасывал Чаликова все глубже в свою гнилостную трясину, душил его, призывая смириться с адом, отравлял, казнил его ежечасно за отсутствие самоуважения.
Однажды, блуждая без всякой цели по улицам города, он случайно столкнулся со своим старым знакомым, с которым когда-то учился в художественной академии. Чаликов помнил, как они вместе с другими молодыми бородачами пили крепкий чай и до утра спорили в мастерской о высоком предназначении художника в этом огрубевшем мире, разговаривали о вечном. Чаликов хотел проскочить незамеченным мимо Ильи Первакова, стесняясь своего опустившегося вида: неряшливого костюма, трясущихся рук, красных слезящихся глаз, стесняясь своей нищеты, бросающейся в глаза всякому встречному. Но тот окликнул его сам, и первый подошел к Чаликову. Перваков был одет в импозантный дорогой костюм и выглядел весьма респектабельно.
– Привет, дружище, – сердечно приветствовал он Чаликова, словно не замечая его стеснения. – Часто вспоминаю тебя, наши беседы. Куда ты пропал, дружище? На вечере выпускников тебя не было, телефон не отвечает.
Чаликов краснел и мялся, испытывая озноб от утреннего похмелья, а Перваков внимательно вглядывался в лицо друга. Наконец, поняв его положение, он достал из кармана бумажник, вытащил тысячную купюру и попросил «без обиды» принять от него эти деньги, не беспокоясь о возврате долга. Потом сунул ошарашенному Чаликову свою визитку и попросил навестить его на службе, тем более что Перваков хотел предложить приятелю «денежный и полезный для души» заказ. Более он не сказал Чаликову ни слова и удалился, напомнив напоследок о хорошем заказе.
Чаликов долго, словно в оцепенении держал тысячную купюру и визитку, потом как будто очнулся, спрятал деньги в карман и прочитал то, что было выведено золотым тиснением на карточке: «Настоятель храма во имя Жен – Мироносиц. Иерей Илья Перваков».
«Так вот оно что! Он стал священником. Невероятно. Как же я пойду в храм со всем тем кошмаром, что творится в душе? – подумал Чаликов. – А заказ? Быть может, это что-то действительно денежное и полезное для души? Разве в наше время такое возможно? Чтобы и денежное и полезное для души одновременно. Господи, как я соскучился по настоящей работе!» – прошептал Чаликов, и вдруг слезы выступили у него на глазах. Прохожие, проплывавшие мимо него словно в тумане, с удивлением смотрели на стоявшего посередине улицы плачущего, неряшливо одетого мужчину, похожего на бомжа.
С тысячей Чаликов поступил так же неразумно, как и со всеми остальными деньгами, которые приходили к нему в виде подачек. Он пропил и проел ее с дворовыми пьяницами за два дня. Хвалился перед ними визитной карточкой с золотым тиснением; утверждал, что жизнь его скоро изменится весьма круто, что его старый приятель Перваков, а ныне настоятель храма отец Илия не оставит его в беде и подбросит заказ на реставрационные работы в церкви; врал, что ему, Чаликову, ничего не стоит завязать со спиртным, что он со своим талантом еще покажет всем, на что способен его гений. Дворовые алкаши, большинство из которых были простыми работягами, не разбиравшимися ни в искусстве, ни в церковной жизни, пили водку Чаликова, ели его закуску, и ничего не понимая из пафосной похвальбы художника, одобрительно мычали и дружно кивали головами. Чаликов не был человеком их круга, они чувствовали это нутром, однако в отличие от зажиточных мясников с рынка не унижали бывшего интеллигента, не куражились над ним, а молча слушали его побасенки, как в сказке о лягушке – путешественнице бывалые жабы слушали завравшуюся в похвальбе, влюбленную в себя лягушку. Не раз битые жизнью, дворовые пьяницы были уверены в том, что нечего мечтать о свободном полете птиц тому, кто родился и жил в болоте. Однако никто из них не решался опустить на землю размечтавшегося враля, потому как Чаликов был хозяином водки, которую они вкушали.
Но когда водка закончилась, один из старых дворовых алкоголиков по прозвищу Дед, лысый однорукий старик с сизым опухшим лицом и шрамом на шее, которого остальные дворовые побаивались и уважали (видимо за то, что Дед двадцать пять лет провел за колючей проволокой), положил Чаликову на плечо свою тяжелую ладонь и тихо сказал на прощание:
– Ты, парниша, это… Бога-то не хули. Труби на своей дудочке, а Бога в свою трепотню не впутывай. Худо будет. Ты не думай, что водкой своей паленой ты нас купил. Тьфу на нее, на водку эту! А за Бога с тебя спросить могут. Запомни, парниша! Это тебе Дед говорит.
И Чаликов в очередной раз почувствовал, как об него смачно вытерли грязную обувь.
Раз в месяц агента Рафаэля на конспиративной квартире поджидал оперативник. Чаликов рассказывал ему о том, что происходит в среде безработных, бездомных бродяг, с которыми ему доводилось поговорить «за жизнь», иногда присочинял что-нибудь из того, чем особенно интересовался милиционер, а когда заканчивал очередное агентурное донесение, жалобно смотрел на целлофановый пакет, стоявший у ног оперативника. Однако, прежде чем выдать Рафаэлю агентурный паек, Василий всегда подолгу пристально вглядывался в лицо Чаликова, будто пытался обнаружить в нем какую-то заначенную тайну, потом обычно хмурился и говорил:
– Плохо работаешь, Рафаэль. Тебе с художественными дарованиями уже давно пора внедриться в банду, торгующую крадеными иконами, а ты мне все о бомжах да о бомжах. Церкви сейчас бомбят, особенно в области. Здесь где-то скупают. Нюхай, Рафаэль, ищи. Надоело тебя поить дармовой водкой. Ее ведь, брат, заработать надо.
Чаликов обещал «нюхать и искать», спешно принимал паек, расписывался в каких-то бумагах и торопился в свою неухоженную холостяцкую берлогу гасить водкой приступы раскаяния от мерзкого иудиного ремесла.
Провалившись с воровством книг, добывать деньги на регулярную выпивку и хоть какую-то закуску становилось все труднее и труднее. Как-то раз Чаликов собрал по сусекам остатки масляных красок, нашел в кладовой немного мутно – желтого лака, отпилил от старой шифоньерки квадрат величиною с икону, поставил перед собой полинявший бумажный образок Богородицы, сложившей в умилении руки, написал на доске некое подобие иконы, полачил ее, и, не дождавшись, пока лак просохнет, побежал на рынок к мясникам.
Он прошел со своей картиной по всем рядам, однако мясники к подобной живописи были равнодушны. «Вот ежели б ты настоящую старинную икону принес, это другое дело», – говорили они. Одна только старушка – покупательница, видимо, пожалев Чаликова, а возможно, и образ Богородицы, явившейся в месте, где пахло мясом и кровью, забрала у Чаликова картину, сунув ему тридцать рублей. «Хоть бы тридцать пять дала», – мрачно подумал художник, в очередной раз с болью в сердце вспоминая тридцать сребреников, полученных Иудой за продажу Иисуса Христа.
Мясник Анатолий, заметив, что картину у Чаликова купили, подозвал его к своему лотку:
– Вот, – сказал он, вытаскивая из-под прилавка репродукцию картины «Тайная вечеря». – Нам такого добра знаешь сколько каждый день предлагают? Эту наркоман упросил за червонец взять. Так куда ж я ее повешу? Над свиными головами?
Потом сощурил один глаз и предложил:
– Ты бы мне ее красками подновил, сделал бы похожую на настоящую, я б ее хоть на даче повесил. У меня как раз в столовой место свободное есть. Тут же ведь они едят. Значит, в столовой к месту будет.
– Подновлю, – ухватился за деловое предложение мясника Чаликов. – Сделаю в лучшем виде. Я ж в свое время таких работ…
– Ты, чай, авансу запросишь, – перебил его Анатолий. – А сам запьешь. Я вашего брата знаю.
– Не запью, Анатолий Иванович, не запью. Крест даю, что не запью. Просто краски нужно кое-какие купить. Работы тут много.
– Ну, ладно, – смягчился Анатолий, небрежно шаря огромной волосатой рукой в кармане забрызганного кровью халата. – Даю тебе сотню. Забирай картину. Но чтоб на следующей неделе был как штык. Обманешь, – хищно улыбнулся он, – я тебя на шашлык пущу.
Чаликов схватил сотенную купюру, репродукцию «Тайной вечери» и, довольный хоть таким заказом, выскочил из душного помещения мясного павильона на улицу.
Он купил по дороге домой бутылку разведенного спирта в «шинке», вошел в квартиру в приподнятом настроении, ибо любой заказ для художника, особенно находящегося в положении Чаликова – это уже событие; поставил картину на стол, посмотрел на нее оценивающе (в том смысле, сколько красок уйдет на холст) и сильно расстроился. На картине было тринадцать героев, тринадцать лиц, двенадцать апостолов и Иисус Христос, и на каждого нужно было извести столько краски, сколько у Чаликова уже не было. Из всего, что он наскреб по сусекам, у него оставалась баночка эскизного масла красного цвета и малый набор наполовину истощенных тюбиков с масляными красками. «Если выполнять заказ аккуратно, на совесть, – подумал Чаликов, – пройдет не меньше недели упорного труда, а мясник в лучшем случае заплатит мне еще сотню. А если покупать новые краски, так я еще и в накладе останусь».