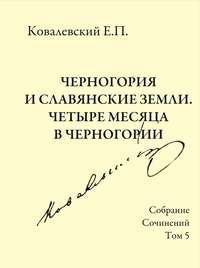Полная версия
Собрание сочинений. Том 1. Странствователь по суше и морям
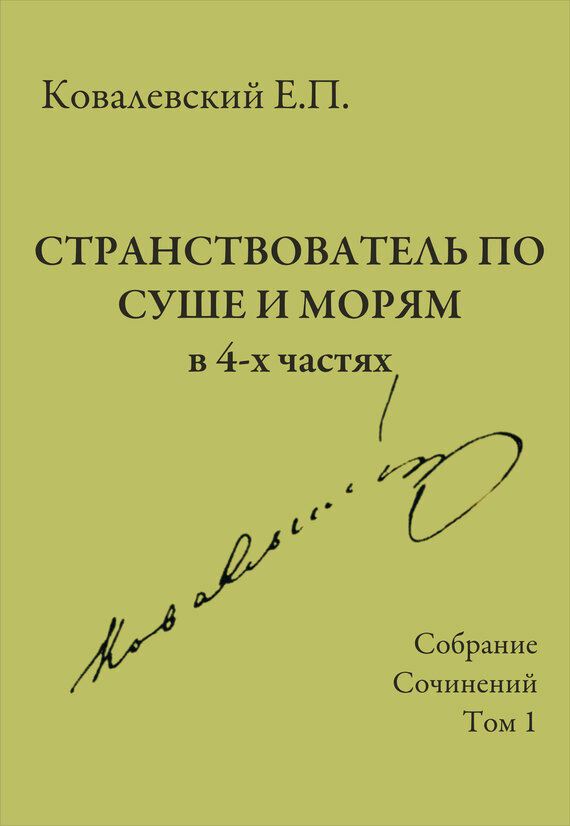
Егор Петрович Ковалевский
Собрание сочинений. Том 1. Странствователь по суше и морям в 4-х частях

Редакционная коллегия:
Винник М.А.,д.пед.н., профессор (главный редактор), Горбунова Е.А., Винник М.А. Пушкова А. А.
От издателя
Основой настоящего Собрания сочинений Ковалевского Егора Петровича, дипломата, путешественника, ученого, общественного деятеля, послужило издание, выпущенное типографией Ильи Глазунова в 1871–1872 годах уже после смерти автора.
Кроме литературных произведений в настоящее Собрание вошли дополнительные материалы, касающиеся жизни и творчества Егора Петровича: опубликованные тексты выступлений, статьи, а также архивные материалы, публикуемые впервые.
Биографический очерк, вошедший в третий том предыдущего издания за подписью П.М., дополнен выступлением П. Анненкова 27-го октября 1868 г. на общем собрании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, а также Формулярным списком 1856 года о службе и достоинстве Корпуса Горных Инженеров Генерал-Майора Ковалевского из Архива внешней политики Российской империи.
Пунктуация и орфография в настоящем издании приближены к современным нормам русского языка, географические названия и имена собственные оставлены в тексте в написании предыдущего издания с сохранением всех встречающихся вариантов.
Примечания настоящего издания выделены курсивом.
Выход первого тома настоящего издания приурочен к столетию со дня рождения Вальской Блюмы Абрамовны, первого биографа Егора Петровича.
Выражаем искреннюю благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации за поддержку проекта, Начальнику Архива внешней политики Российской империи Поповой Ирине Владимировне и сотрудникам Архива Волковой Ольге Юрьевне и Руденко Алле Владимировне за внимание и неоценимую помощь; коллективу Протопоповского УВК Дергачевского районного совета в лице учителя украинского языка, краеведа Остапчук Надежды Федоровны, Фесик Вероники Владимировны, а также Мельниковой Людмилы Григорьевны, которой, к глубокому сожалению, уже нет среди нас, за большую организационную и научную работу по увековечиванию памяти писателя на его родине – в селе Ярошивка Харьковской области.
Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк
В жизни русского общества, сымпровизированного на европейский лад, и все еще импровизируемого, – в этом вихре быстро несущихся порядков, направлений, требований и учреждений, – деятели являются неожиданно, часто всего, менее готовые, редко годные, для предстоящей деятельности. Назначаемые с детства к прохождению известных поприщ, они обыкновенно их-то и не проходят; вытвердив известные роли, они этих-то именно ролей и не играют, а являются совершенно в других, и принуждены их импровизировать. При таланте это удается, без таланта нет, если преданность или смелость всего не превозмогут; но во всяком случае свежий ум освежит рутину, и поможет иному – роль, которую он не знает, сыграть гораздо лучше тех, кто вытвердил ее в совершенстве… Как в небогатой персоналом труппе, ему придется сыграть и не одну, а может быть, несколько ролей в той же пьесе. Там, где умственный спрос превышает предложение, иначе и быть не может.
Е.П. Ковалевский принадлежал к разряду таких умов – быстрых и восприимчивых, растящих плоды на всякой почве. Студент – словесник в Харькове, горный инженер на золотых приисках и заводах Сибири, дипломатический агент в Китае, Черногории, Нубии и Египте; директор азиатского департамента в Министерстве иностранных дел, и независимо от всего этого, а частью и благодаря этому, – даровитый литератор – путешественник и исторический писатель; наконец, главный деятель в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым: вот те роли и поприща, где суждено было Е.П. Ковалевскому оставить по себе следы, очень характерные и симпатические, оригинальные и живые, каким был он сам. Много людей всяких развитий и народностей, под всякими градусами широты видели этого утлого, худощавого и скучающего человека, как бы нехотя и с трудом ворочавшего языком, с виду ко всему равнодушного и слабого, и который, в минуты, когда предстояло совершить то, что он себе поставил целью, внезапно преображался в энергического деятеля, с огненной речью, с несокрушимой волей и силой, даже физической. Но начинался опять обычный ход жизни, скучный и без содержания, и опять являлся немощный и ленивый человек, лениво отделывающийся шутками и полусловами от пустых разглагольствований и споров. Только среда совершенно близкая ему по душе и по направлению всегда имела в своем распоряжении то особое добродушие и тот полузадумчивый, но оттого еще более разительный юмор, которые отличали Ковалевского. Уроженец юга России, он до конца сохранил на себе отличительные черты своей родины, милые холмы которой, с ее дубовыми рощами, хуторками в степи и стаями белых гусей на прудах, не удалось затмить в его сердце ни величавым красотам Белого Нила, ни стремнинам Алтая и Черной Горы. На обратном пути из Нубии он приводил в недоумение своих земляков, уверяя их, что Малороссия гораздо лучше всего, о чем они его расспрашивали. Каждое случайно услышанное меткое выражение на родном наречии приводило его в восторг неописанный: «Ах, как это хорошо!» – говорил он, воспламеняясь, – «Ну может ли что-нибудь сравниться с этим!»
Егор Петрович родился в 1811 году, в тридцати верстах от Харькова, в деревне Ярошовке, родовом имении своего отца, почтенного екатерининского бригадира, уважаемого, за стойкость правил и строгую жизнь, многочисленными родными и соседями, которые всегда находили в его уютном доме радушный прием и готовый разумный совет. Младший из пяти сыновей, и притом с детства болезненного сложения, автор наш, по всем этим правам, был баловнем дома – сестер, братьев, отца и особенно матери, женщины неистощимой доброты и любви, на которую он и походил более других в семействе. Патриархальность тихого и небогатого, впрочем, совершенно достаточного, помещичьего быта; приволье полей и садов; рассказы суеверной дворни, и особенно няни, о разных таинственных чудесах, происходящих в темные южные ночи, иногда даже среди белого дня, в старых тенистых аллеях; жалобные крики совы на семейном кладбище под серебряными чащами тополей: вот обстановка детства, имевшая неотразимое влияние на молодую душу Ковалевского. Не без серьезной иронии, ему столько свойственной, рассказывал он после легенду о себе, созданную конечно воображением все той же няни: как она пошла с ним, ребенком, в сад, как посадила на траву под грушу, а сама полезла «трусить дули»; как она вдруг услышала, что Лёленька заплакал, – смотрит, а рядом с ним сидит другой Лёленька и тянется к нему; как она спустилась скорее на землю и схватила ребенка – которого, уж и сама не знает, да ну бежать… и т. д. и т. д.
– Я уверен, что она взяла именно не меня, а того другого; оттого-то я и не похож ни на что, – прибавлял он с уморительной серьезностью. Но, и не шутя, расположение к таинственному и чудесному сохранило над ним власть до старости. Предсказатели и гадальщицы находили в нем своего посетителя. Правда, он тут же с несравненным комизмом передавал их пророчества и свои собственные ощущения, когда ему приходилось проделывать разные испытания, вроде нюханья с пророками табаку, питья чаю и т. п. Восторженная религиозность детства, – плод домашней обстановки, в нем продержалась недолго. В голубом воротнике студента он еще молился горячо: близость и частые посещения родного крова, тревоги и неизвестность экзаменов поддерживали в нем эту потребность. За ней показалась другая – потребность выливать душу в размеренных звуках и образах, и вот, уже на студенческой скамейке, задумана и начата целая трагедия, оконченная впоследствии и напечатанная под названием «Марфа, посадница Новгородская, или Славянские жены». Единственные экземпляры этой библиографической редкости сохранились в семействе автора. Небольшая книжка, писанная белыми стихами, с посвящением трагедии, прозою, памяти Озерова, интересна только как первый опыт будущего писателя и иного значения не имеет.
Окончанию курса в университете предназначено было дать новый оборот жизни молодого человека. Отправленный в Петербург, к своему брату, который был двадцатью годами его старше и имел самостоятельное служебное положение, он скоро последовал за ним в далекую Сибирь – на Алтай, куда последний был назначен главным горным начальником. Евграфу Петровичу Ковалевскому, впоследствии министру народного просвещения, а тогда дельному горному инженеру и умному администратору, не оставалось ничего другого, как пустить своего меньшего брата по пути, на котором он мог руководить его. Скоро молодой студент, облеченный в форменную одежду горного человека, уже работал на золотых приисках, и плодом новых ощущений в девственной тайге полудикого края был очерк жизни золотопромышленников и рабочих, напечатанный в «Библиотеке для Чтения» и замеченный в свое время по меткости описаний и наблюдательности. Тощая брошюрка стихотворений, «Сибирь – Думы», написанная в тех же пустынях, под шум Иртыша и Оби, осталась, вместе с «Марфою посадницею», свидетельством того, что ни драма, ни стихи не были уделом Ковалевского. Последних он и не пытался писать более; но к драме еще раз вернулся, уже в развитии своего литературного таланта, – не с большим, однако ж, успехом. Это была пьеса в прозе, изображавшая судьбу светского мота, обедневшего и всеми покинутого, но у которого достало воли – в глуши золотых приисков, собственными усилиями и трудом, поправиться, разбогатеть и явиться мстителем в прежнее общество за свое временное уничижение. Драма предназначалась для сцены, даже разучивалась, и главную роль, с горячими монологами, должен был играть Каратыгин, – обстоятельство, особенно пугавшее автора.
– Как я только подумаю, – говорил он, – что Каратыгин примется кричать это на весь театр, – так бы вот и взял назад пьесу.
И точно, он ее взял, а рукопись уничтожил; таким образом, она не появилась и в печати.
Случайно попав на дорогу горного инженера, Ковалевский был выведен ею также неожиданно и на другое поприще, поприще дипломатическое, где врожденные таланты и энергия выдвинули его скоро на видное место. Как горный инженер, он был командирован в 1839[1] году в Черногорию, для разведки золота и обучения туземцев промывке его. Но при условиях, какие тогда сложились, не одна эта цель была достигнута: молодой, горячий, симпатический русский, поэт в душе, и такой же молодой и горячий, поэт уже на деле, владыка Черногории, Петр Негош, воспитанный в России, близкий ее нравам и интересам, – не замедлили сойтись тесно и дружески – не как представитель могущественного народа и государь маленького племени, но как сходится только молодость. Они делили досуги и труды, читали, декламировали Пушкина и вспоминали милую им обоим далекую страну. Патриархальные сенаторы и весь патриархальный люд Цетинье и гор смотрели на обходительного и всему сочувствовавшего, чему они сами сочувствовали, русского, как на своего… Какой-то первобытный мир и тишина охватили душу молодого путешественника: «мне кажется, будто я опять в Малороссии – в Ярошовке», – писал он родным.
И вдруг в невозмутимых горах разразилась военная буря: исконные враги черногорцев, австрийцы, вторглись в эти священные горы и подняли на ноги всех, от старика до отрока. Ковалевский, как не чужой, был принужден (и, конечно, не жалел о том) взять также ружье и карабкаться вместе с горцами по стремнинам, преследуя скоро разбежавшегося врага. Тут начинаются трудности положения нашего героя: упоенные победой смельчаки, не сознавая того, что они сильны только под защитой этих природных стремнин, и непобедимы своим уменьем карабкаться по ним, вздумали перейти в наступление и перенести войну в Австрию.
– Пусть русский капитан нас ведет туда! – кричали они.
И не было никакой возможности вразумить их ни в том, что идти в Австрию безумно, ни в том, что русскому капитану вести их туда просто преступно.
– Русский царь для того и послал тебя, чтоб ты за нас заступился! – шумела толпа, – веди на австрияков!
Дело доходило даже до угроз. Нелегко, и то под условием перевешать пленных австрийцев (между ними были и офицеры), склонились черногорцы на мир, которого они не хотели заключать без личного ручательства Ковалевского.
– Пускай подпишет капитан! – говорили они: его австрияки не посмеют обмануть, а нас обманут.
Капитану горных инженеров приходилось стать главнокомандующим, трактующим о мире…
Австрийские, а за ними и все европейские газеты, конечно, не преминули раздуть эпизод этот чуть не во вмешательство русского капитана в международные дела дружественной державы, и он едва не поплатился за него своими эполетами. Времена были не особенно ласковые, и только искреннее и совершенно правдоподобное изложение всего дела, как оно действительно было, а не так как хотели уверить, что оно было, – в особой записке, поданной венскому нашему послу самим виновником, сменило гнев на милость и расположило в его пользу государя, который даже пожелал видеть Ковалевского лично по возвращении его в Петербург. Вывезенный им маленький черногорец, сын одного из сенаторов, для воспитания в России, был допущен также в Аничкин дворец, и оба были приняты милостиво.
– Ты в какую службу хотел бы? – спросил император черногорца.
– В такую, как капитан! – отвечал тот решительно.
– А в такую, как я, не хочешь? – продолжал Николай, указав на свой гвардейский мундир.
– Не хочу – у капитана лучше.
После этого он был определен в Горный Институт, на казенный счет, где, однако, отличился более на разводах, чем в классах. Настоящее свое призвание нашел он на Кавказе.
Поездка в Черногорию решила однажды навсегда дальнейшее направление жизни Ковалевского: в литературе первой книгой его, замеченной критикой и публикой, были «Четыре месяца в Черногории»; на поприще служебном – дорога дипломатическая открыла ему двери, и с этих пор не было той щекотливой, трудной или отдаленной командировки, для исполнения которой не прибегали бы к нашему горному инженеру. Затеять ли экспедицию в Бухару или зимний поход в Хиву, – в снежных степях уже качается на верблюде этот неутомимый путешественник; задумают ли пробиться дипломатическими факториями и консульствами, в недоступные для них земли Китая; пошлют ли по Нилу ученую комиссию для менее ученого сближения с Мегметом-Али; надо ли ехать в Пекин, или в земли славян в разгар европейской коалиции против России; наконец, быть в осажденном Севастополе: везде – в Африке и Китае, в Крыму и Хиве, в Черногории, Боснии, Сербии, Далмации, – везде и всюду знакомая нам тощая фигура усталого человека подвизается самоотверженно и неутомимо…
Обстоятельное изложение этой стороны деятельности автора не входит в план беглого очерка его жизни. Место ее, и место весьма почетное, – в истории наших международных отношений с племенами далекого Востока и славянами. Здесь довольно указать на то личное влияние, какое вносил везде Ковалевский, обязанный всегда счастливыми результатами только своему богатому уму и знанию людей. С народами упрямыми и лживыми, с их властями в шариках на шапках, ему помогала его неустрашимая, почти отчаянная решимость. Заключением крайне выгодных торговых условий с Китаем Россия обязана именно этой черте своего уполномоченного. Помышляя вообще немного о всякой опасности, он особенно мало помышлял об опасности от начальства, и потому часто прибегал в таких случаях к мерам, менее всего указанным инструкцией. Истощив мирные способы для окончания переговоров с несговорчивым и лживым народом Востока, он делал ему как бы примерную войну: издали показывались конвойные казаки, и какая-нибудь незлобивая пушка, едва ли хоть раз стрелявшая во всю жизнь, обращала одним видом своего безвредного жерла непреклонных шариков в самых послушных, и трактат подписывался. Затем, и казаки и пушка, с таким успехом сыгравшая несвойственную ей грозную роль, возвращались опять к их мирным занятиям… В хивинскую экспедицию Ковалевскому пришлось кинуть все свои пожитки, и только тем задержать гнавшихся хищников, которые делили добычу, пока он успел запереться в крепостцу, откуда и отражал дикарей с необыкновенной стойкостью и находчивостью.
Для нас преимущественно дороги эти индивидуальные черты политического деятеля, потому что они обрисовывают его как человека.
Удивительно ли, что влияние и популярность Ковалевского всегда превосходили его общественное положение? Между славянами, например, они были так велики, что ревнивое австрийское правительство, после 1854 г., закрыло ему навсегда въезд в империю, и не одному носившему то же имя пришлось испытать на границе его неудобства. За то назначение Ковалевского директором азиатского (он же и славянский) департамента было встречено как счастливое предзнаменование между славянами. Тогда, как и прежде, и даже после, когда он почти уже частным человеком, сенатором, вдали от административных сфер, отдался любезным ему занятиям литературой, – его скромный, но гостеприимный кабинет был той точкой притяжения, которой не миновал ни один заезжий славянин. От князя Черногорского до последнего пастуха все перебывали в нем, отвели свою душу искренней беседой, получили разумный и благой совет, нашли поддержку, ободрение, нередко и денежную помощь, хотя сам помогавший, случалось, вынимал для этого последние деньги из бумажника. Любя и балуя, он часто и журил своих любимцев, высказывал им горькие истины, заставлял изменять решения, мириться и проч., и все они видели в этом его право, а в своем повиновении ему – долг.
– Егор Петрович – отец нам! – говорили уходя, иногда наиболее обруганные и пристыженные.
Но не одни славяне знали кабинет Ковалевского – эту своего рода иллюстрацию к разнообразной жизни странствователя, всю составленную из прихотливых произведений далеких стран. Из них двое живых: китайская собачка (скоро, впрочем, исчезнувшая), с поразительным типом Небесной Империи, и черный как сапог негр, вывезенный из Нубии и окрещенный в Пекине, приветствовали еще на пороге посетителя, – первая сиповатым лаем, а другой – осклабленными, снежной белизны зубами. Если к этому присоединить кипы журналов, книг и рукописей, валявшихся всюду и неизбежные конфекты, которыми хозяин, слоняясь из угла в угол, лакомился во всякое время дня и угощал других, – то небольшая комната, постоянно наполненная самым разнообразным обществом, представит довольно наглядно домашнюю обстановку человека нас занимающего. В известные часы можно было, наверное, встретить здесь, рядом с первобытным сыном Черной Горы или жителем Белграда, всю аристократию ума, а иногда и рождения или общественного положения. И все это как-то укладывалось вместе, гармонировало в этих гостеприимных стенах. Самые разнородные оттенки мнений, направлений и чувств могли встречаться только здесь; представители самых противоположных литературных лагерей – сходиться только сюда. За то все, что можно было узнать и услышать свежего и никому еще неизвестного по всем отраслям, – литературы, администрации, политики и науки, – узнавалось и слышалось именно здесь. Не будучи пуристом в деле политических убеждений, Ковалевский отличался полнейшей терпимостью. Часто спор, принимавший жесткий оборот, искусно обрывался искренним смехом, вызванным оригинальной и всегда уместной шуткой хозяина. Самая неуступчивая и строгая молодежь крепко пожимала ту самую руку, которая протягивалась людям, считавшим чуть не сокрушителями основ общества многих молодых посетителей кабинета. Только люди нечестивые и казнокрады знали, каковы те неумолимые сарказмы, которыми он обстреливал их, как артиллерийским огнем. Добрый и снисходительный вообще, он испытывал даже некоторое наслаждение в том, что умел продлить муки этих людей и оказывался неистощимым в изобретении к тому способов.
Рассказав о дипломатической карьере нашего автора, мы почти рассказали и о его карьере литературной: одна вызвала другую, и обе они взаимно дополнились. Путешествия и в службе и литературе составили того цельного «Странствователя по суше и морям», который по праву завладел принадлежащим ему и там и здесь местом. После Черногории, Хива, Бухара, Ташкент и проч., вызвали ряд самобытных и ярких очерков, в форме до того времени небывалой, в изложении легком и живописном, трепетавших образностью, юмором и меткой наблюдательностью.
– Надо написать то, что я видел так, как обыкновенно у нас не пишут, – говорил Ковалевский, близким. – Мне кажется, тогда только и выйдет интересно.
И точно, оно вышло хорошо. Первая, небольшая книжка рассказов, изданная самим автором под общим названием, выписанным выше, разошлась так быстро, что право второго издания было уже куплено книгопродавцем по истечении какого – нибудь месяца. Критика всех журналов и газет единодушно признала замечательный талант писателя-странствователя. Даже газета Булгарина, не всегда воздававшая должное авторам, не воздававшим должного редактору, превознесла книгу, чем и остановила – было на время ее продажу. Эта характерная черта должна быть сохранена для будущего историка русской литературы.
– Помилуйте! Что вы наделали! – говорил прибежавший к автору издатель. Зачем вы не просили Фаддея Венедиктовича лучше обругать?
Но так как автор не просил также и хвалить, за не прошенную же похвалу не воздал должного, то скоро появилась и брань, начинавшаяся оговоркой, что мы-де поддались первому впечатлению и сожалеем о том… Этой поправки было достаточно, чтоб снять опалу публики с книги и направить продажу лучше прежнего.
Успех подстрекнул писателя, и за первым выпуском последовали другие, с не меньшей удачей. Хотя с тех пор прошло много лет и появилось несколько прекрасных путешествий в русской литературе, но «Странствователь по суше и морям» сохранил все-таки свою цену, уже потому, что страны им изображенные не из тех, которые посещаются легко и охотно, а если и посещаются, то не всегда такими даровитыми и умными литераторами. Египет с Нубией и Китай доставили еще несколько интересных томов того же автора, уже хозяйничавшего в литературе путешествий.
Более сложная и заботливая деятельность служебная приковала потом многолетнего путешественника к столу директора департамента, и, остановила, было надолго продолжение литературной его карьеры. Романы, повести и рассказы, писанные им большей частью под разными псевдонимами (Нил Безымянный, Егорев и др.), в разные промежутки безденежья, вызванного поражениями за ломберным столом, не могут идти в счет и не вошли в настоящее собрание сочинений. Сам сочинитель видел в них не более, как литературные грехи. Проказы же современной цензуры делали их еще греховнее. Так, в одной повести «Виртуозы», посвященной описанию известного в то время зловредного кружка игроков, цензор, руководимый охранительными началами ко всему, даже к игорным домам, счел за лучшее перенести место действия «на воды в Германию», и оставил светлые петербургские ночи, ялики на Неве, ночных ванек-извозчиков, нанимаемых в Коломну, табак Жуков и т. п.
В последние годы своей жизни, опытный и известный уже на прежнем поприще писатель попробовал свои силы на новом, и в книге «Блудов и его время» явился искусным передавателем портретов исторических личностей и эпох…
Да, в эти последние, тихие годы жизни, протекшей так тревожно и богато в опасностях дальних странствований, в столкновениях общественной и служебной деятельности; после долго не умолкавших порывов к новым трудам, новым ощущениям и новым тревогам, – неутомимый странствователь и пылкий деятель мало-помалу уложился в почти безвыходного работника у письменного стола. Во всякое время дня можно было застать его с пером в руке, или над документами и книгами публичной библиотеки, и редакторы лучших наших журналов не без удовольствия видели мелкую и частую его скоропись, которой покрывались листы за листами. Если что отрывало еще Ковалевского от таких занятий, так это дела по комитету Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, которого он был одним из главных осуществителей и почти пожизненным председателем. Говорим почти, потому что устав временно устраняет выбывающего члена, впредь до новой очереди, причем Ковалевский был всегда избираем вновь, – единогласно. Тут сосредоточились вся последняя энергия и вся любовь, вносимая им всюду, где только он являлся действующим лицом. Общество и его комитет, пенсионеры общества и вспомоществуемая учащаяся молодежь стали семьей старого холостяка. Устройство чтений и лекций, концертов и представлений в пользу Общества занимали и поглощали его как юношу, почти как ребенка: он оживлялся, суетился, ездил, писал во все инстанции, державшие в своих руках дозволения и запрещения этих невинных собраний; не чувствовал усталости, весело шумел и молодел душой. Успех радовал его, как победа, равнодушие публики выводило из себя, а редкие нападки журналистики на действия комитета просто делали его несчастным. Он о них говорил с огорчением, почти со злобой; видел страшную несправедливость к людям, дающим свое время, свои труды и часто свои деньги делу, за которое их же еще и ругают! Дни заседаний комитета, всегда собиравшегося у него, были для него отрадными днями, и как эти заседания мало походили на что-либо формальное чинно устроенное, и как в то же время они велись умно, последовательно и осмотрительно при помощи радушного председателя, не забывавшего своих конфект и слонянья из угла в угол! Всегдашнее расположение Ковалевского помочь и дать денег нашло себе полное применение в его новой роли. Не ожидая решения комитета, по просьбе нуждающегося, иногда даже не внося в комитет этой просьбы, он спешил выдать из своего бумажника, всякий раз, когда последний позволял это. А бывали случаи, что он и не позволял. Обладатель его был одним из тех немногих высших русских чиновников, которые, дослужась «до степеней известных», остаются с окладами таким степеням неизвестными и едва дозволяющими существовать безбедно. А тут еще – всякое отсутствие сильных ощущений и не угасшая вполне потребность в них, заставляли искать опасностей и тревог на единственном, доступном поприще в четырех стенах – на поприще карт. Зато, когда случалось этому истертому, большому бумажнику, который вечно валялся на столе, не скрывая ни от кого своих удач и поражений, – когда ему удавалось полнеть, он был к общим услугам. Счастлив был проситель, попадавший в такое время: хорошо было и близкой молодежи, а она постоянно окружала молодого до старости Ковалевского.