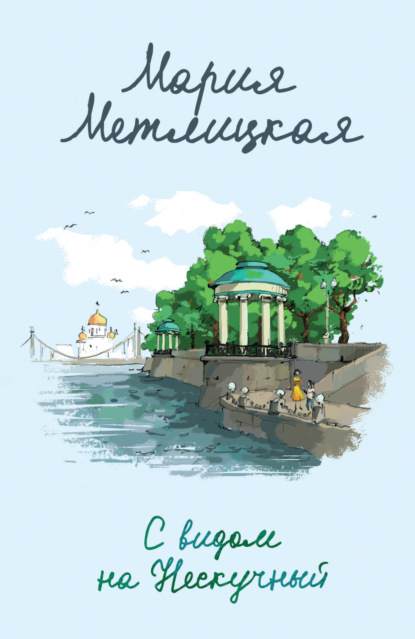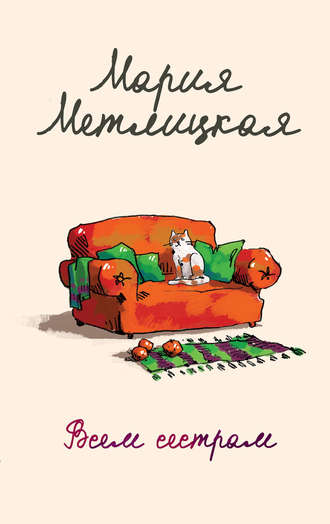
Полная версия
Всем сестрам… (сборник)
– А я – свою, – ответил он. – И тоже, заметь, добровольно. Так что виновных искать смешно, девочка. Просто ты должна их понять и простить. А для того чтобы простить, надо хотя бы понять. И тебе самой станет легче жить. Господи, мы ведь с тобой забыли про чай! – улыбнулся он и достал чашки (свою – голубую, с золотым ободком, и Шурину – белую, с желтыми ромашками по краю), налил темную, почти черную, сильно настоявшуюся заварку. Потом достал из шкафа банку варенья и смущенно проговорил: – Вот, Леночка угостила, старшая медсестра. У нее дача в Купавне и большой сад. Говорит, в этом году сумасшедший урожай яблок. Совсем некуда девать.
Потом они долго пили чай и молчали. Отец опять стоял у окна и смотрел на уже темную, почти чернильную улицу. А потом он как-то собрался, подтянулся и повторил Шуре, что надо собираться в дорогу.
– Ты должна поехать, девочка, – настаивал он.
Шура молча мотала головой.
– Должна! – повторил он. – Ты думаешь, его жене было легко просить меня об этом? Но она же это сделала, Шура! И тебе это сделать нужно. В конце концов, ты это сделать просто должна.
– Я? – удивилась она. – Нет, пап. Вот здесь ты заблуждаешься. Глубоко заблуждаешься. Ничего я ему не должна. И потом, какие у меня перед ним обязательства? Кто он мне такой, в конце концов?
– Шура, ты уже не ребенок. Ты уже взрослая женщина! Со своей, кстати, непростой судьбой. Кто там знает, как сложится жизнь? А про долги – никто никогда не расплатится по счетам, как бы ни старался. На раздумья времени нет, и я не хочу, чтобы в дальнейшем ты о чем-то жалела или не смогла себя простить. Я понимаю, что тебе нелегко, но я тебя хорошо знаю, девочка, и надеюсь на твое благоразумие. – Он улыбнулся и положил свою крупную ладонь на Шурину руку.
– Это вряд ли, пап, – ответила она и убрала свою руку.
– Ну, смотри, – вздохнул он. – Тебе решать.
– Я у тебя останусь? – спросила Шура. – Ехать неохота, да и сил совсем нет.
– Конечно! – кивнул он. – В твоей комнате все постелено.
Шура встала со стула, собрала тарелки и чашки и поставила их в мойку.
– Иди, иди, – сказал отец, – я помою.
Она мотнула головой и включила горячую воду.
– Слушай, пап! – обернулась Шура к отцу. – А вот сейчас, сегодня, когда все это уже в прошлой жизни, почему бы тебе не устроить свою судьбу? Ты ведь еще совсем не старый мужчина, полный сил, умный, красивый, талантливый. Кому, как не тебе, а, пап? Нет, правда, послушай!
Он усмехнулся.
– Ну спасибо, конечно, за комплимент. Приятно это слышать из уст молодой и красивой женщины, пусть даже эта женщина – твоя дочь. Я ничего не загадываю, Шурка. Но не подавать же мне свою кандидатуру на брачный рынок, если таковой имеется? И потом, прошлой жизни не бывает, Шуренок, уж ты мне поверь! – Отец улыбнулся, подошел к Шуре и поцеловал ее. – Спать, девочка. Немедленно! Бросай эти плошки к чертовой матери!
В комнате было душно. Шура открыла настежь окно, и тут же ворвался, словно долго ждал этой минуты, прохладный и свежий майский ветер. Шура укрылась одеялом и блаженно вытянула ноги.
«Господи! Как я устала!» – подумала она. И приказала себе отключиться.
– Завтра! – прошептала Шура. Обо всем этом она подумает завтра.
Когда она проснулась, отца уже не было. На кухне, накрытый полотенцем, стоял пузатый бабулин чайник со свежей заваркой. Она умылась, выпила чаю, съела бутерброд с сыром и посмотрела на часы.
«Ну, вот, как всегда, опаздываю», – подумала она. Второпях подкрасила губы, провела щеткой по волосам и накинула плащ, внимательно и критически оглядела себя в зеркало и поправила выбившуюся прядь. «Ну вот – а теперь к метро, и бегом. И хорошо бы, если бы сразу подошел трамвай. Пешком точно не успею». Она протянула руку за ключами и увидела на полочке перед зеркалом почтовый конверт. Она открыла его – в конверте лежал билет на отходящий вечером поезд. В один конец. Она повертела конверт в руках, поразмышляв, положила его в сумочку и выскочила из квартиры.
На улице Шура запахнула плащ – утром еще было прохладно, но в город уже окончательно пришла весна. Она побежала на трамвайную остановку, и, на ее счастье, через пару минут подошел трамвай.
«Успею, – подумала Шура. – Слава богу, не опоздаю».
Ей действительно нужно было многое успеть. И ни в коем случае не опоздать.
Общие песни
Обычно это начиналось так… Впрочем, нет, надо рассказывать с самого начала. Дня за четыре начинали закупать продукты – обстоятельно, по списку. Потом составляли другой список – собственно самих блюд. Они долго сидели на кухне напротив друг друга и что-то бесконечно уточняли, корректировали и даже спорили, но, как правило, всегда сходились во мнениях. Вообще, с годами их взгляды, представления или суждения о чем-либо практически на все совпадали.
Потом мать закатывала рукава – и начинала трудиться. Она вообще ко всему относилась либо очень серьезно, либо очень легко, середины не было. Потом она начинала тревожиться, что не застынет холодец или не поднимется тесто.
Накануне отец ставил в гостиной большой раскладной стол. Когда стол был уже накрыт, мать садилась на стул, тревожно оглядывала то, что на этом самом столе стояло, и трагически произносила:
– Я так и знала: еды мало. Может не хватить.
Отец подходил к столу, на минуту замирал, а потом растерянно, с сомнением спрашивал мать:
– Ты думаешь?
Мать медленно кивала головой. Сын, в который раз наблюдая эту сцену, крутил пальцем у виска, уходил к себе и раздраженно хлопал дверью. Вечное наследственное сумасшествие, страх, что гости останутся голодными.
– Ну, есть как есть! – вздыхала мать и уходила – переодеваться и наводить красоту.
Наконец раздавался первый звонок в дверь.
– Открывайте! – кричала из ванной мать, докрашивая глаза.
Отец, уже в рубашке и галстуке, распахивал дверь, а мать выбегала из ванной, тоже уже при полном параде. В узкой прихожей начинались радостные вопли и суета. Отец выдавал заранее приготовленные тапочки, а мать принимала конфеты и цветы. И конечно, объятия и поцелуи. Гости отходили на шаг, придирчиво оглядывая друг друга и хозяев, хлопали по плечам, кокетливо поправляли перед зеркалом волосы, одергивали костюмы и платья. Потом шли на кухню перекурить и обменяться самыми свежими сплетнями. Наконец объявляли полный сбор, и все рассаживались по местам.
Гости оживленно оглядывали стол, просили передать друг другу то заливное, то оливье, подкладывали что-то соседу в тарелку, наливали женщинам в бокалы вина и, конечно же, хвалили мать:
– Ну, ты, Танька, как всегда!
Мать рдела и приговаривала:
– Кушайте, кушайте, мои дорогие!
А «дорогие» делали это с явным удовольствием и искренностью.
Потом опять раздавался звонок в дверь, и все хором кричали:
– Открыто!
Конечно, это приходила Лялька, мамина подружка еще школьных лет и героиня тайных грез ее сына в пубертатный период. У Ляльки и сейчас была талия пятьдесят восемь сантиметров. Опоздания ей прощались: она большой босс, директор рекламного агентства. Жизнь у Ляльки непростая, занята она по горло, и внизу, у подъезда, ее всегда ждал водитель.
Лялька грациозно присаживалась на стул, расправляла складки платья и объявляла, что голодна, как портовый грузчик. Мужики наперебой бросались за ней ухаживать. Она девушка хоть и холостая, но, понятное дело, не одинокая, однако в эту компанию всегда приходила соло.
– Ну их к чертям, – говорила Лялька про своих мужиков. – А то еще привыкнут к хорошему!
Мать гордилась Лялькой и радовалась, что та нашла время и приехала.
– А ты думаешь, я пропущу? Ну и где я еще поем такого холодца? – смеялась Лялька.
Дальше – опять звонок в дверь, и все дружно кричали:
– Гоша!
Действительно, появлялся Гоша, точнее, Георгий Владимирович Быстров, по прозвищу Быстрый, адвокат, владелец адвокатского бюро «Быстров и партнеры». Он, как всегда, был неотразим – костюм, ботинки, портфель, и пахло от него сигарами, дорогой кожей и горьковатым парфюмом. Рядом с Быстровым – очередная блондинка под метр восемьдесят, но на нее никто не обращал внимания. Все пили, закусывали, делились новостями и, конечно, сплетничали. Потом, утолив голод, немного расслаблялись – и наступал час икс.
Отец смотрел на мать, и она кивала: давай! Он вставал, шел в спальню и возвращался с гитарой, потом садился на стул, сосредоточивался и с гримасой на лице, чуть наклонив голову влево, начинал ее настраивать. Отец лукавил: гитара бывала настроена со вчерашнего дня, но ему самому надо было настроиться, и все прощали такое кокетство. Мать называла этот проигрыш «бесамемучас». Наконец он поднимал голову, смотрел на мать, у него темнели глаза и твердели скулы, а мать подтягивалась, выпрямляла спину и сцепляла руки в замок. Отец ей кивал – и она начинала петь. «Надежды маленький оркестрик». Все замирали и переставали есть и пить. Кто-то смотрел перед собой, кто-то – на соседа, кто-то тихо, совсем тихо подпевал. «В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам… – чисто выводит мать, и у всех влажнеют глаза. – И вечно в сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви».
Мать заканчивала песню, и все несколько минут молчали. Потом кто-то говорил «еще» – и мать начинала петь «Старый пиджак» и «Арбатский романс», потом вступала Лялька, и они вместе, на два голоса, пели «Ты у меня одна». А дальше гитару брал Гоша и, немного фальшивя, что неизбежно вызывало у отца ироничную усмешку, приятным баритоном начинал: «Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это значит, очень скоро бабье лето, бабье лето». И эту песню уже подхватывали все.
Потом все недолго грустили, и кто-нибудь, вздыхая, предлагал выпить. Потом мать спохватывалась и начинала суетиться, вспомнив про горячее: беспокоилась, что пересушилась баранья нога. Нога торжественно вносится на блюде, в обрамлении картошки и маринованных слив. Большим охотничьим ножом отец начинал крушить эту красоту. Встрепенувшись, все опять оживлялись и наперебой протягивали ему тарелки.
– Нога нежнейшая, – выносил вердикт главный знаток и эксперт Гоша Быстрый, завсегдатай ресторанов.
Все опять с удовольствием ели и поднимали тост за мать.
– Ну что, чай? – спрашивала она, глядя на слегка осоловевших гостей.
– Подожди, Танюш, – останавливали материнский пыл собравшиеся.
Все притихали, отец опять брал гитару, и мать с Лялькой (это у них отлажено будь здоров) запевали на два голоса – мать чуть ниже, а Лялька чуть-чуть выше. Они выводили «Ах, эта красная рябина среди осенней желтизны, я на тебя смотрю, любимый, из невозвратной стороны», – и все печально подхватывали, хор становится нестройным, что немного сбивает Ляльку и мать.
После песни все почему-то вздыхали и несколько минут молчали, а потом гитару снова брал Быстрый и, картавя, кривляясь и слегка перевирая слова, пел Вертинского: «Сегодня наш последний день в приморском ресторане, мы пригласили тишину на наш прощальный ужин».
– Гошка, ну ты враль! – смеялась мать, отбирала у него гитару и передавала отцу.
Тот, чуть подкрутив после Гоши колки, пел, глядя на мать: «Милая моя, солнышко лесное!» И все смущенно отводили глаза, понимая, что сейчас они одни в комнате – мать и отец.
А потом Гоша просил отца спеть про муравья. Отец кивал и, вздыхая, начинал: «Мне надо на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою».
И все видели, как темнеет у Быстрого взгляд, как он вздыхает и смотрит в одну точку, – и все отводили глаза, потому что как-то не очень привычно было видеть поникшего и потерянного Гошу, Георгия Быстрова по кличке Быстрый, владельца адвокатского бюро «Быстров и партнеры». Самого успешного из них.
Впрочем, о чем вы говорите? Кто считал в тот момент промахи и победы? Кто думал, на какой машине и в каком костюме кто при-ехал? Они тогда точно все были равны: успешные и не очень, на «Вольво» или на «Жигулях», одетые с оптового рынка или из бутика с Тверской. Сохранившие размер или расплывшиеся, потерявшие в жизненных боях свои некогда роскошные шевелюры или сохранившие их. Уверенные, что жизнь их прошла не зря, и сильно сомневающиеся в этом. Умеющие брать от жизни все и бредущие по ней тяжело, спотыкаясь и буксуя. Твердо знающие, чего они хотят в этой жизни, и растерянные и растерявшиеся. Они были равны – и они дружно, стройно и уверенно подхватывали:
Каждый выбирает по себеЖенщину, религию, дорогу,Ангелу служить или пророку,Каждый выбирает по себе.Каждый выбирает для себяСлово для любви и для молитвы,Шпагу для дуэли, меч для битвы.Каждый выбирает для себя.Каждый выбирает для себя:Щит и латы, посох и заплаты.Меру окончательной расплатыКаждый выбирает для себя.Каждый выбирает по себе.Выбираю тоже, как умею.Ни о чем при этом не жалею —Каждый выбирает по себе.Они были в тот момент прекрасны – все до одного. И каждый из них твердо был уверен, что он точно, почти наверняка, что бы ни случалось в этой жизни, выбрал по себе. И они остались вместе – основной костяк, ядро, двенадцать человек. Было бы больше – но, увы, кто-то уехал в неблизкие края. Слава богу, еще никого не хоронили. Тьфу-тьфу, не приведи господи!
А мать уже хлопотала с чаем – и все женщины, включая томную длинноногую Гошину блондинку, помогали ей накрывать на стол и резать пирог. А мужчины курили на кухне и о чем-то громко спорили.
Он со стыдом вспоминает, как тогда, в его неустойчивые пятнадцать, даже шестнадцать лет его все это раздражало. Да что там раздражало – просто бесило. С кривой ухмылочкой он присаживался на край стула, заявляя этим сразу: «Я тут у вас ненадолго, и не надейтесь», половиня какой-нибудь пирожок или кусок ветчины, презрительно хмыкал и кривил морду, слушая их заунывные песни и отвечая на их вопросы, смущаясь, когда отец слишком пристально смотрел на мать, а мать как-то по-особенному улыбалась ему. Потом резко вставал, бросал с издевкой короткое «спасибо» и удалялся в свою комнату. Господи, как надоели все эти «сопли в сахаре»! Он громко хлопал дверью и громко, очень громко включал свою музыку. «Металлику», например. Или садился за самопальные барабаны и начинал одурело по ним колотить.
Мать с тревогой смотрела на отца, а тот, тяжело вздыхая, растерянно пожимал плечами.
– Протест! – успокаивал умный Гоша и призывал вспомнить себя.
Одурев от своих барабанов, он хватал с вешалки куртку и выскакивал во двор.
Лет в девятнадцать, когда у него появилась первая серьезная девочка и он впервые начал серьезно сходить с ума, ему захотелось привести ее в дом. Девочка помогала матери накрывать на стол, тонко и красиво нарезала хлеб, подрезала длиннющие стебли роскошных чайных роз, любимых маминых, которые принес, конечно же, Быстрый, Лялька тогда сказала ему, как всегда, со своими хохмочками:
– Верной дорогой идете, товарищ! – и похлопала его по плечу. А потом тихо и серьезно добавила: – А ты молодец! Девочку-то выбрал правильную!
Потом эта «правильная девочка» сидела вместе со всеми за столом и подпевала. Она, конечно, не знала слов, путалась и иногда сбивалась, но он тогда просто смотрел на ее лицо. Просто смотрел – и ему становилось все ясно.
А когда были спеты все песни и съедена баранья нога и когда его девочка, надев мамин передник, мыла на кухне посуду, а отец провожал в передней последних гостей, мать, улыбаясь, шепнула ему:
– Берем?
Он кивнул, почему-то совершенно счастливый.
Вскоре он женился – на этой самой «правильной девочке» – и ни разу об этом не пожалел. Жить они начали сразу отдельно, в квартире бабушки, которую родители немедленно забрали к себе. И он, удивляясь себе, почему-то стал остро скучать по своим. Иногда заезжал по будням, невзирая на пробки и усталость, – так, на полчаса, просто посидеть с матерью на кухне и поболтать обо всем и ни о чем. А уж в субботу они выбирались уже вместе с женой обязательно. Она никогда не возражала.
Своя компания у них как-то не сложилась. Так, пара институтских друзей, один друг школьный. Пара подруг у жены – в основном телефонный треп. Иногда встречались где-то в кафе выпить кофе или пива. Но в гости друг к другу не ходили – как-то не было заведено.
Он спросил однажды у матери, почему это так.
– Вы сейчас очень разобщены, да и жизнь такая – всем не до кого и не до чего, – пожала она плечами. – Мы жили, а вы выживаете. Ужасно, конечно, но это, увы, данность. Мы – другое поколение, и у нас все по-другому. Раньше были только кухни, где мы собирались, а теперь неограниченные возможности. Правда, по-моему, люди потеряли больше, чем нашли, но это сугубо мое мнение.
Теперь он спрашивал мать:
– Ну когда же вы соберетесь?
И смущенно добавлял, что успел соскучиться «по всем нашим».
Мать отвечала: «Да, да, конечно», но он видел, что с годами им это стало все труднее и труднее. Оба работали – и мать, и отец, оба уставали.
Теперь он вызвался закупать продукты – и мать протягивала ему объемный список. Он привозил продукты и молодую жену на подмогу. И опять все парилось, жарилось и пеклось в четверг и в пятницу, а в субботу они с отцом вытаскивали с балкона раздвижной стол, а его жена ставила на скатерть парадные столовые приборы. Мать опять садилась на краешек стула и опять тревожно осматривала содержимое стола, и складывала руки на груди, тяжело вздыхала и произносила сакраментальную фразу:
– По-моему, мало еды!
Отец подходил к столу, внимательно оглядывал его и задавал один и тот же вопрос:
– Ты думаешь?
И мать медленно и трагично кивала головой.
– Вы сумасшедшие! – кричал он, хватаясь за голову, а его жена смеялась и успокаивала мать.
И снова раздавался звонок в дверь, все хором кричали:
– Открыто!
И отец раздавал в прихожей тапки и развешивал в стенном шкафу пальто и куртки. Мать торопливо докрашивала глаза в ванной, а он на правах хозяина рассаживал гостей по местам.
Снова все с аппетитом ели и нахваливали угощения, и снова все поднимали тосты за мать и за их прекрасный и гостеприимный дом. А он сидел и глупо и счастливо улыбался, потому что имел к этому дому самое непосредственное отношение и очень гордился этим обстоятельством.
Конечно, как всегда, Лялька опаздывала, и, как всегда, Быстрый приходил в умопомрачительном костюме и с очередной умопомрачительной блондинкой, и, как всегда, всем было на нее наплевать. Снова все сплетничали – так, понемножку, – и хвастались фотографиями детей и внуков, и курили на кухне. Как всегда, отец резал тонкими ломтями баранину и спорил с Быстрым, кому достанется самое вкусное – косточка от бараньей ноги. Все вспоминали, кому она досталась в последний раз, и путались в показаниях. Выигрывал всегда Быстрый. Мать говорила, что он наглец, и тот радостно с этим соглашался.
И конечно, отец брал гитару. Минут десять настраивал ее, а потом поднимал голову и внимательно смотрел на мать. Она вся подтягивалась и собиралась, и у нее взлетали вверх брови и светлели глаза – и она начинала петь. Она пела «Надежды маленький оркестрик», и все грустнели и хмурили брови, вспоминая свои «свинцовые дожди», лупившие по их спинам, но твердо знали, что снисхождение будет едва ли. Они это знали наверняка – потому что все уже знали про эту жизнь. И точно знали, что «снисхождения» не будет. А на последнем куплете их лица светлели, потому что они продолжали упрямо верить, что «вечно в сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви». Они подпевали, как всегда, нестройно и были прекрасны. И он гордился ими.
Потом брал гитару Быстрый и, как всегда немного фальшивя, пел, глядя на свою блондинку: «Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало на грош любви и простоты, а что-то главное пропало». Но она вряд ли понимала, о чем пел неисправимый романтик и, несмотря ни на что, наивный простак Гоша Быстрый, все еще надеющийся на большую любовь.
Снова чистым и низким голосом подпевала матери одинокая красавица Лялька. После он, сын, немного смущаясь, брал в руки гитару и запевал, глядя на свою молодую жену, – а она улыбалась и проводила рукой по его волосам.
Он пел о любви – потому что он очень любил их всех: и своих родителей, и свою жену, и всех этих немолодых и родных людей, которых знал всю жизнь. Он пел о любви – потому что все песни, в конце концов, о любви. И еще, конечно, о дружбе, верности, надежде и чести. Собственно, обо всем том, чему учили его всю жизнь. И все они, все двенадцать человек – костяк, ядро, все, кто не пропал в житейских бурях, все те, кто по-прежнему вместе, теперь уже, ясное дело, навсегда, такие разные и в чем-то, безусловно, похожие, – дружно и нестройно подпевали ему.
Привычка жениться
Яша Берендикер был мал ростом, почти тщедушен, лысоват и носовит. Но это не мешало ему слыть большим любителем женского пола. Впрочем, почему слыть? Так оно и было. Женщин он любил трепетно, горячо и пылко – словом, вкладывал в этот процесс душу и сердце. Ну и тело, разумеется. Женщины, надо сказать, его тоже без внимания не оставляли, чувствовали, видимо, искренность намерений. Яша был нежен, щедр, галантен, заботлив и услужлив: дарил цветы, не скупился на подарки и приносил кофе в постель. К тому же у него водились деньги, и неплохие, между прочим.
Яша работал фотографом. Служил сразу в нескольких журналах, газетах и фотоателье, здоровье, слава богу, позволяло. К тому же у Яши была престарелая мама, которую он очень любил, боготворил, можно сказать. Мама родила Яшу в тридцать девять, с большим риском для здоровья. Он считал себя большим жизнелюбом и был очень благодарен маме за то, что она, несмотря на запреты врачей, его родила.
Мама, конечно, мечтала, чтобы Яша поскорее женился – все-таки человеку уже за тридцать. И даже намечтала ему невесту – девочку тихую, скромную, разумеется, из хорошей семьи, маленькую, худенькую, кудрявую и кареглазую. Она приняла бы невестку всем сердцем и с дорогой душой, научила бы ее готовить фаршированную рыбу, форшмак и бульон с клецками. Но вкусы Яши и мамы категорически не совпадали. То есть абсолютно, вплоть до полного и тотального разногласия. Маме смириться с этим было трудно, почти невозможно, но она стоически терпела и надеялась на лучшее. Яше нравились совсем не те женщины. В душе он понимал, что мама, скорее всего, права, но ничего поделать с собой не мог. Природа брала свое: Яше нравились женщины яркие, крупные и высокие. Очень высокие. Впрочем, рядом с ним казаться высокой было нетрудно.
Со своей первой женой Яша познакомился на улице – та ловила машину. Когда Яша увидел ее на кромке тротуара, у него перехватило дыхание, и он резко затормозил. Это была высокая и довольно полная блондинка с большой грудью и голубыми глазами. Познакомились, разговорились. Ее звали Ольгой, и она была певицей из русского народного хора – пела в кокошнике и сарафане. Она рассказала, что живет с бывшим мужем в комнате в коммуналке. Муж-баянист – мерзавец и сволочь, таскает баб домой. Ольга в это время сидит на кухне. В общем, жизнь не сахар. К тому же вечные гастроли по провинции, холодные клубы, Дворцы культуры и воинские части. Яша слушал Ольгу, и у него рвалось сердце.
Назавтра решили встретиться. Яша пришел с букетом белых роз и пригласил ее в «Арагви». Заказал все, что можно, не скупился. Ольга оглядела стол, сглотнула слюну, уселась поудобнее и стала жадно есть. Яша смотрел и любовался. Хороший аппетит говорил о крепком душевном и физическом здоровье. Ольга не без удовольствия выпила триста граммов водки – еще бы, под такую закуску!
После «Арагви» Яша повез Ольгу домой. Долго целовались в машине. Она сморкалась, плакала и низким грудным голосом громко, очень громко пела Яше «Миленький ты мой, возьми меня с собой». У Яши от жалости рвалось сердце, но «взять с собой» было некуда.
И Яша начал действовать. Каждую неделю он объезжал детские сады и фотографировал детей. В день съемки мальчиков и девочек приводили в нарядных платьицах и костюмах. Яша сажал их на стул и давал в руки медвежонка или куклу, обещал, что вылетит птичка. Дети испуганно и торжественно замирали. Родителям он обещал, что если фото не понравится, то его можно будет не забирать и денег не платить. Это многих подкупало – и фотографии почти все с удовольствием забирали. Кому не хочется иметь дома лишний снимок любимого чада? К тому же халтурщиком Яша никогда не был.
Деньги потекли не речкой – рекой. Через полгода Яша купил квартиру у отъезжавшего на историческую родину дальнего родственника. По тем временам покупка квартиры была делом доступным. Квартира оказалась во вполне приличном состоянии и даже с мебелью (разумеется, за отдельную плату).
Ольга зашла в квартиру, села на стул и расплакалась, и у Яши от жалости и любви разболелось сердце. Она разобрала вещи, сварила кислые щи и предложила Яше сходить за бутылкой – отметить новоселье. А что, вполне нормальное желание.