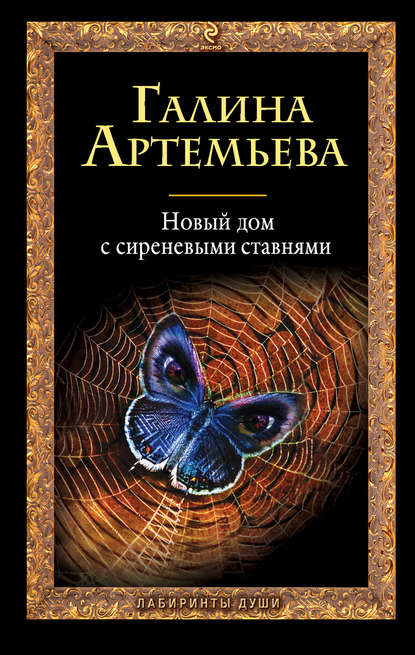Полная версия
Хозяйка музея


Галина Артемьева
Хозяйка музея
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,Дубравы мирные, священный сердцу кров!Я возвращуся к вам, домашние иконы……У брега насажу лесок уединенный,И липу свежую, и тополь осребренный;В тени их отдохнет мой правнук молодой…Е.А. Баратынский. «Родина» (1821).Когда погребают эпоху,Надгробный псалом не звучит,Крапиве, чертополохуУкрасить ее предстоит…А после она выплывает,Как труп на весенней реке, —Но матери сын не узнает,И внук отвернется в тоске…А.А. Ахматова. «Август 1940».Часть I
Музей народного бессмертия
1. Прибытие
Ах какая сирень повсюду! Какая зелень на деревьях юная! А воздух! Буквально – не надышишься! И отовсюду запахи и звуки детства: весенняя земля благоухает, река плещется, пароходик пыхтит, временами подавая уморительные сигналы.
Елена Михайловна уже отошла от вокзала на изрядное расстояние, когда принялась наслаждаться бурной майской весной маленького неведомого дотоле русского городка. На вокзале об удовольствиях не могло быть и речи: противоестественная для такого местечка толчея и суетня привели столичную жительницу в ужас, ибо сразу подскочили мысли о воровстве, грабеже и разбое. Разумеется, собираясь в дорогу, она приняла положенные меры предосторожности – паспорт и командировочные деньги таились в трусах, в специально пришитом на такой случай карманчике. Елена Михайловна весь путь от Москвы до места назначения животом чувствовала благодатное тепло жизненно важного документа и денежных знаков. Однако в сумке тоже имелись ценности, которые к телу не прикуешь: мобильный телефон, например, или футляр с очками для чтения, без них она никуда, ничего не прочтет, не разглядит. Пропадут очки – пропала и командировка. Лупа еще мощная при ней, блокнот с адресами и пометками. Вырвут сумочку из рук, и вся дорога зря.
Раньше жулики сочетали свое нечистое искусство с своеобразным благородством и сочувствием: ценности заберут, а ненужное подкинут обокраденной жертве, а то и непосредственно к отделению милиции доставят. Сейчас родная земля наполнилась чужаками без роду, без племени, хлынувшими разбойничать на бесхозных бескрайних просторах. Все для них тут не свое, ненавистное, никого им не жаль, за десятку зарезать готовы, и душа их не дрогнет, и покаяния не дождешься, потому что мы для них всего лишь добыча бессловесная на охоте, как белка или заяц: покричит-покричит перед смертью, затихнет – и можно шкуру обдирать, радуясь удаче.
На вокзальной площади происходило светопреставление. Смугломордые чужаки несли свою тарабарщину, вопили зазывно исконно-посконные российские цыганки с цыганятами, обещая сказать судьбу и требуя подать деткам на кусочек сухаря. И над всем этим нечистым разноцветьем – куполом высился незатейливый, но доходчивый русский мат, до отвращения густо пропитанный похмельными испарениями. Жизнь кишела червями, как в выгребной яме. Казалось, спасу не будет от этой чумы.
Без всякой надежды продралась Елена Михайловна сквозь привокзальное похабство, держа курс на виднеющиеся издалека кресты храма. И – надо же! Не прошло и десяти минут, как станционные впечатления оказались напрочь забытыми, и нахлынула почти навеки почившая, почти утраченная радость бытия, охватила сумасшедшая вера в будущее счастье. Будто ничего еще и не начиналось. Будто все еще впереди.
Ах! Только ради этого ощущения, ради живой воды чувств стоило проделать такую дорогу.
Неведомо сколько простояла Елена Михайловна на мосточке у реки, надышалась ее русалочьим манящим запахом и нехотя опомнилась. Ее ждут. Возможно, уже обеспокоены отсутствием. Она достала из сумочки плотный листок, на котором красивым уверенным почерком обозначался адрес и схема передвижения к месту назначения. Музей народного бессмертия. Название какое-то немыслимое, хотя, поразмышляв, не придерешься – имя, так сказать, на все времена. И в пир, и в мир, и в добрые люди.
И верно – музей с этим самым названием продержался с момента основания в 1927 году (к десятилетию навеки нерушимой советской власти) последующие восемьдесят лет, пережив:
– агонию коллективизации;
– массовое истребление народа под видом врагов народа;
– тяготы Великой Отечественной войны с недолговременным даже занятием города вражескими полчищами;
– послевоенную разруху;
– новую волну истребления чудом оставшегося в живых народа под видом врагов народа;
– разоблачение свиноподобным лидером культа личности сыгравшего в ящик грозного тирана;
– нашествие кукурузы на среднерусские поля;
– «чувство глубокого удовлетворения» бровастого генсека, сместившего волюнтаристски беснующегося свиноподобного;
– парочку безвременно почивших, слишком поздно дорвавшихся до власти партийных старателей, не успевших поцарствовать всласть;
– ненароком сокрушившего несокрушимую и величавую державу ставропольца, по недомыслию и мягкотелости затеявшему самому непонятно что;
– лихого президента-алконоида, сварганившего беспримерный в многотрудной истории государства грабеж и распад.
Все это время музей жил и принимал своих посетителей, учет которых велся аккуратно и неукоснительно. Располагался очаг культуры в древней помещичьей усадьбе и давно по идее должен был бы обветшать и рухнуть, учитывая вложения в провинциальные нужды не первой необходимости, но дирекция билась и добивалась – то капремонта, то обустройства канализации, то водопровода, то отопления, то покраски фасада.
Только вот вышла странная неувязка. Теперь, когда Россия вроде бы вновь приосанилась и даже впервые за много десятилетий обрела власть с человеческим лицом, Музею народного бессмертия стала грозить погибель. Старинный особняк с флигелями, расположившийся на живописном холме, с высоты которого открывался дивный вид на реку, заливные луга и окружающие их леса, действовал болезненно-возбуждающе на почти уже пресытившееся всесторонними земными благами местное важное начальство. И решило оно по справедливости упразднить эту никому не нужную богадельню с неадекватным ситуации названием, а вместо этого организовать там подобающее помещение для властных структур – резиденцию губернатора, например, или что-нибудь наподобие того, подлинно демократичное и актуально нужное позарез.
В связи с этим начальство издало наказ, указ или приказ, или даже все вместе о неминуемом освобождении здания городской усадьбы от музея в рекордно стремительные сроки.
Музей испустил прощальный крик о помощи. Что-то вроде лебединой песни. «Ты прости меня, любимая, за людское зло». Типа – нам не повезло, но хоть приезжайте, перья с трупа оберите, авось пригодятся.
Сколько этих просьб-воплей поступает в министерства разных профилей, никому из простых смертных неведомо. Как поступают, так и пропадают с концами. Но тут, как иногда почему-то бывает, вмешался случай: взволнованное письмо попалось на глаза новому начальнику, еще не разучившемуся самостоятельно читать.
Загрохотал на разные голоса скандал, приведший к тому, что алчные, но трусливые местные шакалы на время отступили, затаились, музей восстановили в своих правах, а Елена Михайловна, как опытнейший и достойнейший эксперт, послана была в командировку для установления реальной ценности выставляемых экспонатов, слезные мольбы о спасении которых содержались в письме.
Она каким-то сверхъестественным нюхом умела безошибочно устанавливать подлинность и авторство исторических документов и произведений искусства. В такой среде вскормлена-вспоена, что иначе и быть не могло: все известные ей фамильные предки, близкие и отдаленные родственники и свойственники обретались в мире прекрасного и другой естественной для себя среды не представляли. Редкостное врожденное чутье Елены Михайловны можно без преувеличений считать результатом генетической селекции многих предшествующих поколений ее семьи. Она по запаху определяла состав красок на холстах, созданных за несколько столетий до появления ее самой на свет Божий. Приложив ладони к старинному манускрипту, она ощущала или тепло его подлинности, или мертвяческий холод подделки. Дорогостоящие новомодные приборы и сложные анализы потом только подтверждали то, что уверенно провозглашала Елена Михайловна, едва взглянув на исследуемый объект. Потому-то сейчас слово было за ней.
2. Родное
Музейное здание открылось перед ней внезапно. В таком великолепно-щемящем ракурсе, что слезы подступили и сердце нерасчетливо-бешено заколотилось в груди, как в пору первой забытой любви. Словно и не проскрежетало над родиной убийственное столетие, словно не подверглась она поруганию, насилию и разграблению. Все: и бело-лиловые гроздья махровой сирени, и прозрачно-розовокожие березы, и новая, только развернувшаяся, листва векового дуба, и просторный луг, и широкая река с песчаным берегом, и радующий гармонией очертаний дом с двумя флигелями – все говорило о незыблемости и вечном покое.
«Если бы так было в раю!» – подумалось Елене Михайловне.
И сразу она решила: что бы там за жалкие экспонаты ни обнаружились, что бы там за ерунда ни хранилась, этот не тронутый ублюдками кусок русской земли она обязана защитить любой ценой. Лишь бы все осталось как есть.
С крыльца приветливо махали две трудно различимые фигурки. Она медленно поднималась к вершине холма, с каждым шагом все явственней ощущая присутствие неземной благодати.
– С приездом! Добро пожаловать! Легко нас нашли? – Низкий глуховатый женский голос звучал вперемешку с высоким мужским тенорком.
Елена Михайловна смотрела в незнакомые лица, словно узнавая в них родных.
Директор музея, простоволосая женщина в ситцевом платье и накинутой на плечи кофте ручной вязки, удивляла своей некартинной красотой. Ясные черты лица, большие умные глаза цвета реки (в них мерцалось то голубое, то зеленое), легкие русые волосы, собранные узлом на затылке, дарили впечатление чистоты и вдумчивости. Молодой человек, оказавшийся сыном Прекрасной Дамы, на мать был совсем не похож. Разве что глаза? Такие же огромные, с тайной. А так – ничего особенного, хлипкий, худосочный поздний ребенок со склонностью к умничанию, привязанный, как бывает в таких случаях, до старости к маминой юбке. Женщине было что-то около сорока пяти – пятидесяти, и определялся этот возраст не округлым, без единой морщинки лицом, а слегка потяжелевшей фигурой, полноватыми у щиколоток ногами и взглядом, лишенным ожидания. Юноша казался двадцатилетним.
– Афанасия Федоровна, – представилась хозяйка.
– Доменик, – назвался юнец.
– Афанасия! Какое имя подходящее! Означает «бессмертная» по-гречески. Вам сама судьба велела в Музее народного бессмертия трудиться, – восхитилась Елена Михайловна нежданному совпадению, слегка удивившись, что молодого человека величают столь экзотически.
– Не совсем судьба. Хотя и судьба, наверное, тоже. Мой отец – создатель этого музея. И я – единственное его чадо. Другого имени и быть не могло. Его имя Федор, по-гречески, «Божий дар». Вот я и получаюсь – бессмертная, рожденная Божьим даром.
– Как ваш отец? Музей существует с 1927 года… Сколько же ему было тогда? И когда вы родились? – довольно бестактно поразилась Елена Михайловна.
– Да, я понимаю ваше удивление. Мой отец родился в 1880 году. А я – в 1950-м. В семьдесят лет он произвел на свет первого своего ребенка и передал мне знания, опыт, историю нашего семейства, невоплощенные надежды, несбывшуюся любовь… А… – Женщина безнадежно отмахнулась от неуместных воспоминаний. – Долгая трудная говорильня. Давайте лучше отведу вас в ваши покои. Умоетесь с дороги, потом перекусим, покажу вам наши ресурсы. А вечерком под соловьев и помечтаем о прошлых днях, если сон не сморит.
– Да! – восторженно откликнулась Елена Михайловна. – Да! Соловьи! В мае должны петь соловьи! Как это я не вспомнила!
– И поют, – ласково подтвердила Афанасия Федоровна. – У них ничего не меняется. Трещат, свистят, щелкают, заливаются. Трели с вечера до утра на весь лес. Наслушаетесь. Спать не дадут.
– И не надо! И не надо! – Измученная другими шумами городская жительница самозабвенно отреклась от ночного покоя во имя наслаждения подлинным природным естеством.
Музей явил себя нежданным чудом. Естественно, все оказалось оборудованным отнюдь не по последнему слову музейной техники, но все было живым, дышащим и жизнеспособным: великолепные полы из широченных дубовых досок, высокие потолки, свет из слегка затененных шторами окон, анфилады комнат, в каждой из которых обитали бесценные сокровища.
Елена Михайловна знала, каким успехом пользуются на Западе музеи одного шедевра. В выходные тянутся со всех сторон машины к скромному загородному павильону, где со всеми предосторожностями содержится одна-единственная картина признанного мастера. Люди платят огромные деньги за входной билет, любуются, потом устраиваются на пикник в специально отведенном для этого месте, дисциплинированно общаются с природой и умиротворенными возвращаются в свои городские муравейники.
Того количества неординарных полотен, что содержались в Музее народного бессмертия, хватило бы на несколько десятков полновесных культурно-коммерческих проектов. Несколько женских портретов самого Серова! Карандашные наброски Сомова! Небольшой, но очень выразительный Врубель! Это только в одном зале. А дальше – даже себе не верилось: парочка восхитительных пейзажей Левитана. Глаза не знали, на чем раньше остановиться. Дойдя до комнаты, на стене которой красовалось полотно Брюллова, ни в одном каталоге не обозначенное, Елена Михайловна схватилась за сердце.
– У вас тут какая сигнализация установлена? – почему-то шепотом поинтересовалась она.
– А никакая! – со злорадной гордостью парировала Афанасия Федоровна, тоже понизив голос.
– Как же так! Как же это! – залепетала командировочная москвичка заполошно.
– Плевать потому что всем. Писала, просила, отказывают. Нет финансирования. И еще говорят: подлинность не установлена. Не шедевры, мол, а подделки. Догадываетесь, почему?
– Прибрать к рукам чтоб удобнее! – крикнула Елена Михайловна отчаянно. – Картины вытащат, распихают по своим дворцам и замкам, храм искусства подожгут – концы в воду. Потом «восстановят». Сделают «как было», но с другими хозяевами. Знаем: сплошь и рядом! Это не татаро-монголы, те только дань собирали. Эти – из атомной эры. После себя выжженную радиоактивную зону намерены оставить.
– А! Ладно! Как-нибудь! – отмахнулась от трагической правды хранительница вечности. – Тут, знаете, как Бог даст. Было уже всякое. Вон в 1918 все усадьбы и мало-мальски достойные дома крестьяне поразоряли, а хозяев, кто не попрятались, растерзали, как звери бы дикие не сумели. Мы же тут… устояли.
– Как только удалось-то? – подивилась Елена Михайловна.
– Папа говорил: на силу или большей силой ответишь, или пропадешь. У них тогда сила в злобе была, тьма из них поперла, бесовня. Тут уж без границ… Тут только мощью духа взять можно было. Нечеловеческим противодействием. «Из любви к невинному искусству сразился с нечистой силой», – так он иногда шутил. Отпугнул их. Рыцарские вон доспехи надел, видели в том зале? Подлинные, надежные. Вышел в шлеме, в нагруднике. Это он для защиты, если камнями кидаться станут или пульнут. Он приготовился к смерти, понимаете? И пока шел к порогу, молитву перед сражением повторял. Знаете ее? «Господи сил, с нами буди: иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы. Господи сил, помилуй нас.
Суди, Господи, обидящие нас, побори борющия нас. Приими оружие и щит и востани в помощь нашу.
Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человеческому предстательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя.
Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его».
– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, – эхом отозвалась гостья.
– Они, вероятно, сначала доспехов испугались. Не ожидали, конечно. Может, подумали, что привидение, дух какой-нибудь. Пыл угас. Папа стукнул копьем о крыльцо и посулил, что, если кто что-либо этому дому сделает, того он тут при всем народе заклинает на бесплодие – никого не родите, мол, и у вас ничто не уродится.
– Подействовало?
– Отступили. Поняли, что правду обещал. Да они, те, кто грабил, убивал, разве сами себя не прокляли? Как их потомки сейчас живут, видите?
– Хуже свиней в нечистотах, – подтвердила Елена Михайловна.
– Ушли, дом не подпалили. Есть такие безобразники, что из задора даже не побоятся. А тут – чудо! Разве нет?
Елена Михайловна заворожено кивнула.
– Вот я и не отчаиваюсь, держусь, надеюсь, – продолжала хозяйка. – Придет помощь, если суждено. Вы ведь приехали? Я и не ждала уже совсем, а вот… Так что видите, чудеса нечаянные продолжаются.
Тревога стеснила сердце гостьи, призванной спасти и помочь. Были времена, когда ее подписи под экспертной справкой вполне хватило бы для спасения. Но… река времен несется, размывая берега до неузнаваемости… Что сумеет она сейчас?
3. «Слети к нам, тихий вечер…»
Все стало абсолютно ясно с музеем: спасать, хоть бы и ценой собственной жизни! Как сделал некогда его основатель. И хитростью, и криками, и посулами, и высшими авторитетами, и сердцем собственным, и днями положенной на все это жизни – на такое не жалко. И можно бы уже уезжать восвояси, чтоб драгоценное время не истекло понапрасну. Но командировку Елене Михайловне выписали на три дня. Иначе – что за инспекция такая? И ей самой очень хотелось задержаться. Долгие светлые вечера, соловьи, весь счастливо-покойный весенний трепет сулили исцеление и оживление утрамбованной в городской асфальт душе. И когда еще! Да и будет ли вновь такой миг в ее жизни?
Вечером пили чай на веранде. Белые крашеные полы, белый стол, стулья, тонкий белый фарфор – ничего лишнего, все просто, как полеты во сне. И обещанные разговоры под птичьи трели.
– Папа был женат в юности. На исключительно красивой девушке. Знаете, такой декадентский брак: она в Париже или в Тоскане, он в Берлине или в Петербурге. Переписка бурная. Тысячи писем. И все сохранились, все здесь. От нее к нему.
– А его к ней? Пропали, конечно? – сокрушилась Елена Михайловна.
– Нет, целы. Ее правнуки хранят. Недавно сюда наведывались. Так и осела она под Флоренцией. На смену эфемерному браку в письмах пришел другой, вполне естественный брак с деторождением, домохозяйством, требовательным мужем. Но переписка их заглохла потому, что письма перестали доходить, а то бы, верно, до глубокой старости отчитывались друг другу: «Милый Федичка…», «Ненаглядная Любочка…»
– Издать бы эти письма, – мечтательно вставила гостья, уверенная в необычайной ценности личной переписки основателя музея.
– Все может быть, – неопределенно протянула Афанасия.
– И потом он так и жил один? Тут?
– Да, совершенно сознательно стал отшельником. Занимался делами спасенного музея – экскурсии, учет, ремонты, постоянные хлопоты о поддержке. Тогда несказанно повезло, что дом на отшибе стоял. Ни под дворец культуры, ни под горком не забрали – далеко, мало чести. Картинками тоже не очень интересовались – висят, и пусть себе. Картинки каши не просят. И название такое – себе дороже связываться. А папа всю жизнь мечтал о любви, о друге сердечном. В дневниках, когда уже за шестьдесят было, писал: «Не минуй меня, любовь!»
– Пришла? – как на сказку, отозвалась слушательница.
– Судьба подарила. Мама после лагерей не имела права проживания в крупных городах. Десять лет там провела, с тридцать восьмого по сорок восьмой. С двадцати своих прекрасных годков до тридцати старушечьих. Ее первые месяцы на свободе всё за старуху принимали. Пионер однажды в автобусе место уступил: «Садитесь, бабушка». И она села, не удивилась. Я, правда, старухой маму не помню. На моей памяти она счастливая, цветущая, ясная.
– За что же ее?.. Как члена семьи изменника родины? Происхождение не то было?
– Происхождение самой высшей пробы – пролетарское. Отец – заводской рабочий, мать на ткацкой фабрике. Комар носу не подточит…За антисоветскую агитацию и пропаганду. Она в университете училась на третьем курсе уже. И их комсомольский секретарь принялся ее домогаться. Грубо полез. Они на майские праздники посиделки на природе устроили, пели-плясали. Он маму на траву повалил. Сам хилый, плюгавый. Такие любой ценой своего добиться должны, иначе им жизнь не в радость. А она статная была, высокая, крепкая. Оттолкнула его и засмеялась: «Изыди, сатана!» И частушку еще какую-то издевательскую пропела. Не помню слова… Вот вроде:
Меня немилый домогался,да без рук-без ног остался.Утешает вся семья:хорошо не без…Ну и так далее. Смешно, да?
– Страшно, – поежилась Елена Михайловна.
– За отогнанного «сатану» и за частушку получила десять лет. Потом уже много позже стало известно, что из центра на места спускались разнарядки, норма арестов обозначалась, недовыполнение плана грозило арестом тому, кто за это дело отвечает. Естественно, все старались. Тем более – нанесла такую обиду. Грозили расстрелом. Помиловали. Отсидела. Отпустили.
И вот оказалась она тут. И пришла наниматься в музей сторожихой. Такая имелась вакантная должность. Маме было все равно. Лишь бы было, где спать и на что купить кусок хлеба. И чтоб никого не видеть по возможности. Папа ее, конечно, принял на работу. И они полюбили друг друга. Я больше никогда не видела, чтоб так любили. И даже в книгах ничего подобного их отношениям не описано. Мама всегда говорила, что благодарна и гонителю своему, и тюрьме, и ссылке – без них она не нашла бы свою любовь и так и прожила бы в идиотской слепоте и безверии. Они расписались. Потом появилась я. Потом мы жили долго и счастливо. Да-да, долго и счастливо! Вы же видите наш дом. Нам ничего больше не надо было. Только одним воздухом дышать и любоваться друг другом с утра до ночи.
– Это плохо, когда родители такой пример подают, – заговорила вдруг Елена Михайловна о наболевшем своем. – Мои тоже жили и живут душа в душу: «Мишенька», «Лидонька», «детонька», «птиченька»… Мне казалось, все так и должно быть. У всех так. Ничего особенного. Это я уже ближе к тридцати поняла, что мы ненормальные. В каждом встречном кавалере ожидала такого как папа увидеть. Неизменно деликатного, ласкового и при этом чтоб профессионал настоящий был, труженик. Высокие требования, разочарования сплошные – все мне казалось неправильным, не таким, как следует. И осталась во всей своей красе – непарный шелкопряд.
– Вы совсем одна? – посочувствовала Афанасия.
– С дочкой. Дочка у меня. Рита. Двадцати семи лет. Искусствовед по диплому. Сейчас в артистки подалась. В этом, говорит, ее призвание. В театре играет молодежном, в сериале снимается. Родители мои, слава Богу, живы. Сидят безвылазно на даче. Сестра… А так… По ощущению внутреннему… Конечно, я одна. У всех все свое. У дочки все свое. Так и должно быть. А у меня своего нет, все с ней общее. И ей от меня вроде ничего и не надо, лишь бы я ни во что не вмешивалась.
Иногда слезы из глаз льются дождем – неужели не будет у меня собственной жизни, своего счастья? Понимаю – все позади. Мне сорок семь. Куда уж. Сердце последнее время подсказывает: счастье в другом. Вот в таком вечере, как сегодня у вас, в травинке, былинке каждой. Даже в том, как шмели гудят, в треске стрекозиных крыльев.
– Все это живое жужжит, трещит, колышется, цветет, увядает по предназначенному им порядку. И мы тоже… Только смириться трудно. Самое трудное – смириться.
– Да, то, что живет как часть Богом созданного мира, не размышляет, подчиняется установленному от века устройству. Потому и прекрасно. А у нас законы человеческие. Стало быть, несовершенные. Не к созиданию, а к погибели, – продолжала сетовать Елена Михайловна, но мысль ее оборвалась.
Со стороны реки донеслись обрывки речи, вопли и визг – как зловонием из выгребной ямы окатило. Юные сильные голоса выкрикивали в весеннем своем томлении такие непотребные гнусности, на которые у прожившей свой век отнюдь не в райских кущах москвички сердце откликнулось болью и частым стуком, будто из груди хотело выпорхнуть.
– Пронзает, – подтвердила Афанасия, заметив невольный жест гостьи, схватившейся удержать сердечный испуг. – Дети с больными душами народились. Ни грязи, ни злобы, ни слова не убоятся. Расплата наша…
– А почемунаша? Нам за что? За то, что честно за копейки трудились и трудимся? Ни о чем не просили, не жаловались, старались изо всех сил людьми остаться? Чем мы провинились, чтобы нам среди всего этого жить?
– Я вот тоже все себя спрашивала: за что? А потом все же открылось: мы ведь все единое целое. Народ – единый организм. Гангрена начинается с маленького воспаления. Поначалу все другие части тела здоровы и готовы функционировать на совесть. И левая рука, скажем, довольно долго еще не подозревает, что гниение мизинца на правой ноге грозит гибелью всему существу. Надо безотлагательно принимать меры – за это голова в ответе. А если голове не хочется думать о конечностях, у нее другие заботы и чаяния, то результат неминуем. И не будет никто разбираться в степени вины отдельной части тела трупа. Тоже непреложный закон натурального бытия, – Афанасия Федоровна махнула рукой. Легко, не пытаясь ничего от себя отстранить или обрубить. Видно, привыкла к смердящим словам своих соплеменников и смирилась давно.