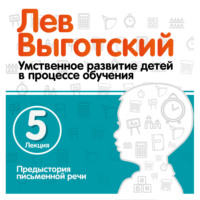полная версия
полная версияДиагностика развития и педологическая клиника трудного детства
Исследование не заканчивается на этом общем указании. Мы должны пойти дальше и спросить себя: если структура личности ненормального ребенка представляется столь неоднородной и столь сложной, то где наиболее слабые, податливые пункты этой структуры, которые должны быть в первую очередь атакованы воспитанием? Если цепь умственной отсталости состоит из разнородных с точки зрения развития и сопротивляемости звеньев, то где наиболее слабые места этой цепи, в которых она может быть разорвана? Ответ на этот вопрос снова приводит нас к коренным проблемам психотерапии и лечебной педагогики. Вторичные образования оказываются наиболее слабыми звеньями цепи, они в первую очередь поддаются воздействию.
В виде общего правила можно сказать: чем дальше отстоит синдром с точки зрения своего возникновения и места, занимаемого им в структуре, от первопричины, от самого дефекта, тем легче он при прочих равных условиях может быть устранен с помощью психотерапевтических и лечебно-педагогических приемов. Обратимся к примерам. До последнего времени считалось, что психотерапевтическому воздействию поддаются только психогенные заболевания. И это действительно так, если под лечением подразумевать исключительно причинную терапию, т. е. такую, которая устраняет причину заболевания. В этом случае совершенно ясно, что причинная психотерапия, т. е. лечение, устраняющее причину заболевания, возможна только там, где сама причина является психологическим образованием. Поэтому психоневроз, психогенное реактивное состояние могут быть излечены психотерапевтическим путем, но бредовое состояние тифозного больного или расстройство мышления при афазии, конечно, психотерапевтическим путем излечены быть не могут.
Однако в основе этого взгляда лежит та ошибочная мысль, что всякая терапия есть обязательно причинная терапия и что другие формы лечения, например симптоматическое лечение и лечение, возбуждающее и укрепляющее силы самого организма для борьбы с болезнью, должны быть вовсе заброшены. На самом деле это не так ни в приложении к теории и практике современной медицины, ни, тем более, в приложении к проблеме воспитания. Здесь в проблеме развития наибольшее значение приобретает динамическое сцепление причин, здесь причина отстоит от ее последствий часто настолько далеко и настолько отличается от них, что применять эту идею к проблеме лечебной педагогики значит лишать лечебную педагогику по крайней мере 9/10 тех областей, в которых она с успехом приложима.
В последнее время Кречмер выступил с прекрасной статьей, посвященной проблеме терапии шизофрении и пограничных с ней состояний. Кстати сказать, у этого замечательного психопатолога современности ясно намечаются два различных русла в работах: с одной стороны, русло статического конституционального исследования, с другой – русло динамики развития в понимании и изучении психопатологических состояний. Думается, что эти два русла кречмеровского учения и должны быть нами использованы в первую очередь, В частности, для нас представляет чрезвычайный интерес методологическая основа той системы психотерапии, которую намечает Кречмер для шизофрении. Эта психотерапия должна исходить из того факта, что одна из существенных причин указанной группы заболевания лежит в наследственных задатках. Болезнь протекает с телесными изменениями и может привести к смерти, в тяжелых случаях приводит к длительным дефектам, которые не поддаются даже сильнейшему воздействию психотерапии. Отрицать это – значит стать жертвой некритического психотерапевтического оптимизма. Устранить широчайшие корни шизофрении может только телесная конституциональная терапия. Принципиально это вполне возможно, потому что конституция – это не фатум, но биологическая игра сил, в которую можно вмешаться, если знать ее внутреннюю динамику. Эндогенный характер еще не означает фатума, но этот антибиологический фатализм в течение многих лет парализовал психотерапевтическое мышление. Он мешал исчерпать возможности психотерапии и заставлял видеть органический дефект там, где были психогенные арабески, выросшие на почве скудного процесса.
Заслуга Э. Блейлера и К. Г. Юнга в том, что они распознали эту сложную психическую реактивную надстройку над основными органическими симптомами шизофрении. Но следует ли из факта признания органической причины шизофрении, что психотерапевтическое воздействие при этой болезни не имеет никакого значения? Так прежде думали, но это совершенно ложное и научно несостоятельное мнение. Мы не должны бездеятельно жалеть шизофрена, но по окончании острого сдвига обязаны на основе данного состояния сейчас же формировать нечто новое, ибо практически нас раньше всего интересует не то, что повреждено эндогенно, но то, как это проявляет себя социально. Уже занимаясь проблемой терапии людей с шизо-френными задатками, Кречмер отмечает, что здесь наблюдаются типичные задержки в развитии, возникшие в эпоху полового созревания. Здесь имеет место застревание в нормальной фазе протеста, которая есть у всех.
Мы не будем сейчас останавливаться на всем богатстве тех моментов, которые развертываются в этой проблеме, отметим только один чрезвычайно интересующий нас момент. Обсуждая вопрос о возможности психогенного заболевания шизофренией, Кречмер указывает на то, что во время войны, когда больницы подвергались нашествию целой лавины истериков, там отсутствовали шизофреники. Эти статистические данные, по мнению Кречмера, показывают, какие психические раздражения провоцирует шизофренический процесс. Большая группа угрожающих жизни ситуаций и витальных аффектов (испуг, страх за жизнь, голод, холод, жажда, боль) не являются здесь особенно вредными. Шизофреник удивительно невосприимчив ко всей этой шкале аффектов. Во время войны многие авторы наблюдали каменное спокойствие находящихся в начальной стадии заболевания шизофреников под действием ураганного огня. Если бы витальные аффекты играли сколько-нибудь заметную роль при шизофрении, то статистический результат, о котором мы говорили выше, был невозможен. Другие группы аффектов – эротические и религиозные – занимают большое место в структуре и содержании интересующей нас болезни. Здесь есть место для взаимной игры эндогенных и психогенных моментов, здесь мы снова упираемся в вопрос, в проблему многомерной диагностики. Эта многомерная диагностика приводит нас к установлению многослойности, гетерогенности, неоднородности картины развития личности, все равно – здоровой или больной, и ее настоящего состояния.
С. Левенштейн экспериментально установил следующее положение. По его мнению, существуют поддающиеся и не поддающиеся лечению шизофрены. Поддающиеся – те, которые в психологическом эксперименте обнаруживают истероподобные добавочные моменты. На основе собственного опыта Кречмер подтверждает первую половину этой тезы: именно, что шизофрения с неврозоподобной надстройкой имеет гораздо более широкие терапевтические шансы. Важно отметить, что материал Г. Е. Сухаревой говорит о том, что невротические построения у шизоида часто принимают длительное течение, обнаруживают наклонность зафиксироваться и плохо поддаются терапевтическому воздействию. Нам думается, что это надо понимать относительно: по сравнению с невротическими образованиями у нормальных или во всяком случае у непсихолатических личностей. Если же сравнить эти образования с чистыми случаями шизофрении, мы снова убедимся в парадоксальном факте, именно в том, что больные с добавочными явлениями наиболее поддаются лечебному воздействию. Интересно, что больные шизофренией не представляют исключения из общего правила, относящегося одинаково как к больному, так и здоровому ребенку. «Нужно лишь сказать, – замечает Сухарева, – что среди тяжелых форм шизоидных психопатий с малой продуктивностью, с большим количеством невротических надстроек существуют случаи, которые при современном состоянии наших знаний не могут быть отграничены от легких, медленно текущих шизофрении» (1930. С. 70). Нас интересует в данном случае не оценка современного состояния знаний в этом вопросе, но нечто гораздо более глубокое, именно признание того, что принципиальное различие между развитием здорового, психопатического и больного ребенка должно быть нами отвергнуто.
Но самое замечательное дальше. Левенштейн прав только в первой половине своей тезы: больные с добавочными истерическими надстройками наиболее поддаются лечению. Однако часто и эндогенные шизофрении, как говорит Кречмер, доступны терапевтическому воздействию. Каждый органический процесс в нервной системе, поскольку он сохраняет остатки функций, не препятствует применению психотерапии. Это подтверждается опытами с трудотерапией в больницах. И в самом деле, представим себе, что вследствие землетрясения, подземного толчка разрушается какое-нибудь сложное здание. Разрушение будет в данном случае идти по законам построения этого здания, по законам его внутренней логики, хотя сам процесс разрушения и вызван внешней причиной, ничего общего не имеющей с логикой данной постройки. То же самое верно и в отношении личности. Пусть шизофрения вызвана органическими причинами, но, поскольку при ней наблюдается распад личности и психики, постольку этот распад должен изучаться по психологическим законам, ибо он совершается по этим законам в действительности. И поскольку органический процесс оставляет возможности развития или функционирования психологических процессов, они подлежат психотерапевтическому и лечебно-педагогическому воздействию и направлению. Спрашивается, что именно должны мы подвергать этому воздействию? Наряду с ортопедией психомоторики, с упорядочением переживаний, с устроением личности, с за-капсулированием отдельных бредовых образований, с расщеплением аутистических и реалистических тенденций мы должны заняться, как указывает Кречмер, переработкой остатков патологических переживаний, бредовых образований и воспитанием речевого и социального поведения. Таким образом, и здесь совершенно ясно указывается на то направление, которое принимает работа психотерапевта. Она заключается не в устранении причин, а в борьбе со следствиями. Это умение найти слабые звенья, поддающиеся воздействию, составляет главную основу всей психотерапии, всей лечебной педагогики. Так точно, как возможно симптоматическое, укрепляющее, компенсирующее лечение, возможны и все подобные виды лечебного воспитания. Бороться с распадом личности можно не только путем устранения причин, приводящих к этому, но и путем активного устроения личности, образования ее единства, помощи ей в ее борьбе с распадом, стимулирования ее развития и т. д.
Э. Кречмер в заключение ставит перед собой вопрос: с какой целью мы лечим шизофренов, какие наличные возможности руководят нами при этом? Исследователь двояко отвечает на вопрос о том, что позитивного можно создать из этих руин: «Одна основная цель современной психотерапии ясна: она формирует из всего этого хаоса и обрывков негативизма, автоматизмов, причудливых идей полезную рабочую машину. С помощью психотерапии, которая дает блестящие результаты, мы можем использовать заложенные в шизофрении тенденции к психомоторной автоматизации и выработать с помощью продуманного воспитания вместо бесполезных полезные стереотипии, трудовые стереотипии. Это решение имеет логику, последовательность и ясную идею. Кто лично изучал ее в больших больницах, тот должен сказать, что есть что-то отрадное в строгой поступи шизофренных рабочих батальонов. Она имеет стиль. Кроме того, трудотерапия является при легких случаях незаменимым средством для того, чтобы снова пробудить наличные еще остатки, и это относится одинаково и к истерикам, и ко всякого рода невротикам. Без принудительной силы целевой работы их личность теряет твердую основу. Но наряду с этим в логике шизофрена заложены не только задатки стереотипной рабочей машины, но и как раз противоположная линия – линия суверенно понимающего аутизма, для которого нет предрассудков других людей, линия созерцания отдаленного от суеты и работы индийского мудреца. И так как современная жизнь нивелирует все оригинальное и лишь все шизофренные люди храбро держат его знамя, то перед нами открывается и другая линия психотерапии шизофрении. Если мы из массы средних шизофреников выработаем полезные рабочие машины, то из немногих, лучших из них, мы создадим оригиналов, истинных мудрецов. Эта задача создать из постшизофреников снова личность, но не бледный дублет нормальных людей, а специфически шизофренную личность, со всеми духовными оттенками этого типа, очень трудна. Она вознаграждает затраченный капитал врача лишь в лучшем случае, но зато тогда она полностью вознаграждает его, потому что среди шизофреников, как и среди других людей, мудрые составляют ничтожное меньшинство».
Замечательно у Кречмера здесь не разделение двух линий – духовной личности и рабочей машины, а общее методологическое указание на то, что в природе самой больной или патологической личности заложены основания, заложены руководящие образы для ее дальнейшего развития и воспитания. В этом смысле патологическое также не отделено от нормального непроходимой границей.
Для того чтобы покончить с теоретической стороной интересующего нас вопроса, нам остается сказать еще о последнем, что в сущности уже подготовлено всем предыдущим ходом изложения. Самое важное, самое существенное для всего намеченного нами хода рассуждений следующее. Исследователь должен проникнуть не только в мертвую структуру отдельных синдромов, но раньше всего понять законы их динамического сцепления, их связь и взаимозависимость, их отношения. Только тот, кто овладеет этим, овладеет внутренней динамикой данного процесса и ключом к практическому решению вопроса о воспитании ненормального ребенка, ибо разгадать связь и отношения динамической зависимости, лежащие в основе сложной структуры личности ненормального ребенка, – значит понять внутреннюю логику этой структуры.
В этом смысле замечательны слова Кречмера относительно шизофрении. К. Ясперс, Груле и другие, говорит он, ошиблись, сделав нечувствуемость главным критерием душевной жизни шизофреника. Поведение шизофреника бессмысленно так же, как иероглифы египтян, пока они были непоняты. Вместе с Блейлером надо овладевать этим жаргоном и перевести его на немецкий язык. Тогда откроются осмысленные связи и комплексные влияния, которые часто не резко отличаются от соответствующих образований у невротиков. Это же всецело относится и к любому развитию ненормального ребенка. И там умение интерпретировать, расшифровывать иероглифы является основным условием для того, чтобы перед исследователем раскрылась осмысленная картина личности и поведения ребенка. Без этого навсегда закрыт доступ к исследованию такого ребенка и к воздействию на него.
По замечательному выражению К. С. Лешли, одним из основных доказательств немеханичности и неатомистичности деятельности нашей нервной системы является факт осмысленности, связности, структурности поведения личности даже при патологических нарушениях. В церебральной системе, по его мнению, единство деятельности коренится, по-видимому, еще более глубоко, чем структурная организация. Работая над животными и над больными людьми, он все более и более поражался отсутствию хаотичности в поведении, которую можно было ожидать, судя по размеру и форме поражений. Можно наблюдать большое выпадение сенсорных и моторных способностей, амнезии, эмоциональные дефекты, деменцию, и при всех этих условиях сохранившееся поведение осуществляется в упорядоченной форме. Оно может быть причудливым или может быть карикатурой нормального поведения, но оно не является совершенно неорганизованным. Даже деменция не совершенно бессмысленна: она заключает в себе снижение уровня понимания и сложности тех соотношений, которые могут быть поняты. Но то, что больной может выполнить, он выполняет в упорядоченной и осмысленной форме.
Таким образом, даже видимая бессмыслица имеет, очевидно, смысл. «Это безумие имеет свою методу», как говорит Полоний в «Гамлете». Лешли образно утверждает, что если представить себе экспериментально созданный хаос в поведении, то все равно хаоса не получилось бы. Нервная система, говорит он, обладает способностью к саморегуляции, придающей связный, логический характер ее функционированию независимо от того, каковы нарушения составляющих ее анатомических элементов. Предположим, мы могли бы срезать мозговую кору, повернуть ее и поместить снова задом наперед, связав наудачу с различными волокнами. Каковы были бы последствия этой операции для поведения? С точки зрения традиционных теорий, мы должны были бы ожидать полного хаоса. С той же точки зрения, которую К. Лешли отстаивает, можно ожидать лишь крайне незначительных нарушений поведения. Исследуемый субъект, может быть, нуждался бы в некотором перевоспитании, хотя возможно, что я этого не было бы, так как мы еще не знаем ни локализации, ни характера организации навыков. Но в течение перевоспитания субъект может обнаружить нормальную способность к пониманию отношений и к рациональной деятельности в мире своего опыта.
Таким образом, задача расшифровки, интерпретации вскрытия разумных, осмысленных связей, зависимостей и отношений составляет главную и основную задачу исследователя в интересующей нас области. В этом отношении, нам думается, задача исследования должна пониматься шире, чем задача обучения технике и методике отдельных опытов. Здесь в гораздо большей степени встает задача воспитания мышления и умения находить связи, чем задача хорошо владеть техникой. Кречмер, указывая на то, что в основе применяемой им методики исследования словесное описание конституции предшествует измерению и должно быть получено всегда независимо от него, говорит, что глаз не должен заранее встречать помехи в данных измерениях. Все зависит от возможности совершенной художественной тренировки нашего глаза. Отдельные измерения по шаблону, без идеи и интуиции об общем строении, вряд ли могут сдвинуть нас с места. Сантиметр не видит ничего, сам по себе он никогда не может привести нас к пониманию биологических типов, которое является нашей целью. Но раз мы научились видеть, то мы вскоре замечаем, что циркуль дает нам точные красивые подтверждения, дает цифры, формулировки, а иногда важные поправки к тому, что мы обнаружили глазами, по мысли Кречмера. В зависимости от этого нужно переоценить роль сантиметра и глаза в умении измерять и в умении видеть не только при методике исследования телосложения, но и при методике всякого педологического исследования. Задача методики заключается не только в том, чтобы научить измерять, но и в том, чтобы научить видеть, мыслить, связывать, а это значит, что чрезмерная боязнь так называемых субъективных моментов в толковании и попытка получить результаты наших исследований чисто механическим, арифметическим путем, как это имеет место в системе Бине, ложны. Без субъективной обработки, т. е. без мышления, без интерпретации, расшифровки результатов, обсуждения данных нет научного исследования.
Нам остается кратко наметить схему педологического исследования так, как мы его понимаем. Мы думаем, что одна из основных ошибок современной педологии – недостаточное внимание к практической работе, культуре диагностики развития. В сущности этому искусству никто не обучает педолога, а огромное большинство наших педологов, занятых теоретической работой, оставляют эту сторону дела в совершенно неразработанном виде. Здесь педология оказывается в гораздо более жалком положении, чем педиатрия и другие смежные с ней области. Педиатр часто знает в области детской патологии не больше, а меньше, чем педолог в области детского развития. Но педиатр владеет тем, что знает, он умеет практически применить свои знания.
Недавно один из агрономов рассказывал в печати о своем коллеге, попавшем в Америку и принявшемся там за поиски работы. Этот ученый-агроном развернул свои дипломы, стал сообщать о своей подготовке, о стаже, об исследованиях, но его прежде всего спросили, что он умеет делать. Этот вопрос в сущности следовало бы поставить и перед современной педологией. Ей предстоит задуматься над тем, что она умеет делать, и научиться прилагать к жизни мертвый капитал своих знаний. Мы думаем, что в работе над диагностикой развития, над созданием педологической клиники педология только и сможет окончательно оформиться как наука, но никогда не достигнет этого только на теоретическом пути.
Предлагаемая нами схема педологического исследования в применении к трудновоспитуемому и ненормальному ребенку складывается из нескольких основных моментов, которые мы назовем в порядке их последовательности. На первое место должны быть поставлены тщательно собранные жалобы родителей, самого ребенка, воспитательного учреждения. Начинать надо именно с этого, но и жалобы следует собирать совсем не так, как они обычно собираются (их дают в обобщенном виде и вместо фактов нам сообщают мнения, готовые выводы, нередко тенденциозно окрашенные). В жалобах родителей часто, например, приходится читать: ребенок злой, отсталый. Исследователя же интересуют факты, которые должны указать ему отец или мать.
В этом смысле большое методическое значение приобретают основные принципы исследования характера. Известно, что нужно избегать не только субъективных оценок, но, добавим от себя, и всяких обобщений, принимаемых на веру и не проверяемых в течение исследования. Сам по себе факт, что отец считает ребенка злым, должен быть учтен исследователем, но этот факт должен быть учтен именно в своем значении, т. е. как мнение отца. Это мнение необходимо проверить в ходе исследования, но для этого следует вскрыть факты, на основе которых получено данное мнение, факты, которые исследователь должен толковать по-своему. «Если мы спросим, – говорит Кречмер, – простую крестьянку, был ли ее брат боязливым, миролюбивым, энергичным, то мы часто получим неясные и неуверенные ответы. Если мы, напротив, спросим, что он делал будучи ребенком, когда должен был один отправляться на темный сеновал, или как он себя вел, когда происходила драка в трактире, то эта же самая женщина даст нам ясные, характерные сведения, которые благодаря своей жизненной свежести носят на себе отпечаток достоверности. Нужно быть хорошо знакомым с жизнью простого человека, крестьянина или рабочего, и всецело перенестись в нее, причем при расспросах следует остановиться не столько на схеме свойств характера, сколько на его жизни в школе, церкви, трактире, в повседневной деятельности, и все это на конкретных примерах. Я поэтому особенное значение придаю тому, чтобы по возможности больше расспрашивать в этой конкретной форме» (1930. С. 138).
Существенно учитывать и субъективные показания самого ребенка. Но и здесь могут быть снова перед нами показания, часто заведомо недостоверные, если их принять как свидетельство об известных фактах. Ребенок может себя рекомендовать не таким, каков он в действительности, он просто может говорить неправду, но сам по себе факт всегда остается фактом, в высшей степени ценным для исследователя. Факт собственной самооценки, факт лжи должен быть учтен и объяснен исследователем. Нам рассказывали об одном известном невропатологе, который, отрицая всякое значение субъективных показаний, старался застраховать себя от внушающего воздействия жалоб больного и начинал всегда с объективного исследования. Для этого врач придумал простой прием: когда он приступал к исследованию больного, то велел ему всякий раз дышать ртом для того, чтобы лишить пациента возможности сказать, на что он жалуется и что у него болит. Когда больной, естественно, удивленный тем, что врач осматривает не то, что у него болит, пытался сказать, на что он жалуется, исследователь прерывал посетителя и снова напоминал о том, что нужно дышать ртом. В этой утрированной, карикатурной форме выражена совершенно ложная тенденция игнорировать субъективные данные. Мы уже указывали в другом месте, что ценность субъективных показаний совершенно аналогична ценности показаний подсудимого и потерпевшего в суде. Всякий судья поступил бы, разумеется, совершенно неосновательно, если бы хотел решить дело на основе жалобы подсудимого или потерпевшего. Но столь же неосновательно пытаться обойтись вовсе без показаний обоих заинтересованных, а потому искажающих действительность лиц. Судья взвешивает и сопоставляет факты, сличает их, толкует, критикует и приходит к известным выводам.
Так поступает и исследователь. Нужно с самого начала усвоить в практическом педологическом исследовании одну простую методологическую истину: часто прямой задачей научного исследования является установление некоторого факта, который не дан непосредственно в настоящем. От симптомов к тому, что лежит за симптомами, от констатирования симптомов к диагностике развития – таков путь исследования. Поэтому представление, будто научная истина всегда может быть установлена с помощью прямого констатирования, оказывается ложным. На этом ложном предположении была основана вся старая психология, которая думала, что психические явления могут изучаться только в их непосредственном усмотрении, с помощью интроспекции. Между тем, как правильно говорит в «Методологическом введении в науку и философию» (1923) В. Н. Ивановский, эта идея покоится на ложной посылке. Окончательное разъяснение этого вопроса связано с введением в психологию понятия бессознательного. В прежнее время психология, особенно английская, часто вовсе отрицала возможность изучения психологических состояний бессознательного характера на том основании, что эти состояния не сознаются нами и, следовательно, мы о них ничего не знаем. Рассуждение это исходит из посылки, безмолвно принимаемой за несомненную, а именно, что мы можем изучать только то и вообще можем знать только о том, что мы непосредственно сознаем. Однако предпосылка эта необязательная, так как мы знаем и изучаем много того, чего непосредственно не сознаем, о чем узнаем при помощи аналогии, построения, гипотезы, выводимого умозаключения и т. д., вообще лишь косвенным путем. Так создаются, например, все картины прошлого, восстанавливаемого нами при помощи разнообразнейших выкладок и построений на основе материала, который нередко совершенно непохож на эти картины. Когда зоолог по кости вымершего животного определяет его размер, внешний вид, образ жизни и говорит, чем это животное питалось и т. д., все это непосредственно не дано зоологу, им прямо не переживается, а он делает вывод на основании некоторых, непосредственно осознаваемых признаков костей и т. п.