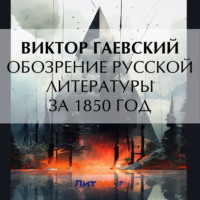полная версия
полная версияОбозрение русской литературы за 1850 год
Г. Вельтман в своих прогулках иногда расскажет вам эпизод увлекательный, но зато иной раз проведет вас по разным мытарствам, по возвращении из которых вы чувствуете неизъяснимо неприятное чувство.
Хотя автор «Приключений» и написал в своем предисловии, что книга его есть собрание неопределенных личностей, резко отделяющихся от общества своею нравственною и физическою наружностию, странностию и даже безобразием, и что этому соответствует и вымысел самых приключений, однако, нельзя не заметить, что ни критика, ни читатель не могут принять этих слов в оправдание невероятностей, которыми весь роман довольно обилен. Как бы ни были странны и безобразны личности, как бы редко ни встречались они в действительности, даже если бы их никто никогда не видел, но они должны быть таковы, какими могут быть. Далее пределов возможности воображение не имеет права уноситься. Ум и здравый смысл вопиют за истинность и требуют, чтобы им давали правду даже в вымысле, показывали людей даже в царстве призраков, как выразился, не помню, какой то критик.
Мы не станем придираться в частности к некоторым невероятностям, потому что они подают иногда г. Вельтману повод к прекрасным эпизодам; но мы только спросим: неужели эти несообразности, преувеличения неизбежны, неужели автор не может угомонить своего воображения?
Однако, относя многие погрешности обоих эпизодов романа г. Вельтмана к излишней затейливости воображения, несдерживаемого строгою обдуманностию и вкусом, нельзя пропустить без внимания и некоторого умышленного искажения действительности.
У нас состояние общества, в разных слоях его, составляет любимую тему сочинителей романов и повестей, так что исторический элемент мало в них участвует. Число романов и повестей с содержанием, заимствованным из истории, ограниченно и известно всем на перечет, тогда как, можно сказать, наши беллетристические произведения составляют один из главнейших материалов для изучения общественного быта нашего. Расширение формы романа и повести в этом отношении весьма важно, потому что допускает и увеличение круга зрения романистов.
Но если так важно расширение пределов и усложнение содержания романа, то не менее должно быть обращено внимание на взгляд романиста, на направление, на колорит, которым покрываются создаваемые им картины современной общественности. Взгляд этот важен потому, что писатель должен возбуждать сочувствие и к себе и к воспроизводимой им действительности; но это сочувствие не может возникнуть в читателе, если сочинение проникнуто ложным взглядом, если оно оцвечено неестественною краскою. Автор никогда не должен забывать, что он есть действительно моралист, и что никакая мораль, никакое нравоучение, никакое рассуждение не могут так сильно действовать на читателя, как мораль в поэтических образах. Если талант силен, он увлекает читателя по тому же ложному направлению, которое прошел сам писатель; если же, напротив, он слаб, то читатель скоро замечает неверность избранного им пути, и тогда в первом случае вовсе не происходит никакой пользы, а во втором бывает польза только отрицательная: читатель, мысленно опровергая автора, может находить новые доводы, которые без ложности прочитанных им произведений не могли бы прийти ему в голову.
Осторожность романиста почти не должна иметь пределов, когда он берется судить общественные недостатки. В руке его два орудия для преследования пороков и заблуждений изображаемого им общества: ирония и юмор. И то и другое орудия могущественные, если рука, ими владеющая, верна и искусна. Ирония, простирающаяся от забавной каррикатуры до едкого сарказма сатиры, одушевленная веселым смехом или презрением, есть дитя ума; редко примешивается к ней чувство, и то, когда достигает она до порывов негодования. Не таков юмор, менее разнообразный в своих проявлениях, но зато более глубокий в существе своем. Причина сильного действия юмора заключается в том, что он более исходить из сердца, нежели из ума. Его насмешка проникнута чувством грусти, скорби, сострадания. Это светлый плащ, наброшенный на траурную одежду, – веселая улыбка, насильно скрывающая горькия слезы. Ирония горла и надменна; она ставит себя выше преследуемой ею действительности; она враг её и потому возбуждает страх и досаду, язвит самолюбие и обижает иногда там, где бы нужно было сочувствовать. Юмор живет в совершенном согласии с действительностию, с её пороками, противоречиями и заблуждениями, потому что он в ладу с самим собой; он не разлад, а примирение необходимого с возможным; он не разрушает, а развивает у он поднимает падающего, вразумляет неведущего; за смехом у него всегда готова слеза сочувствия и сострадания, и потому он не возбуждает ни страха, ни досады, но прокладывает дорогу к ясному сознанию недостатка.
Г. Вельтман избрал в «Приключениях» своим орудием иронию, и, если бы нужно было еще более охарактеризовать ее, то мы сказали бы, что он вдался в карикатуру. Это наименее возвышенный вид насмешки. Карикатура изображает предметы в превратном виде, увеличивает или уменьшает их донельзя. Действие её есть смех, до того веселый, что он ошеломляет порок или недостаток, против которых направлен; сбить их с ног и лишить возможности подняться, смутить без отговорки и ответа – вот цель карикатуры; но для того, чтобы достигнуть этой цели, необходимо поразительное сходство карикатурного изображения с подлинником, несмотря на преувеличение (charge); надобно, чтобы основные черты характера были резко и верно отмечены.
К сожалению, карикатура г. Вельтмана часто не выполняет такого требования. Причина этого несовершенства заключается отчасти в том, что карикатура его преимущественно направлена против так называемых образованных классов общества, отчасти же в ложном и ограниченном понимании жизни его, а следовательно и его недостатков. Г. Вельтман или мало наблюдал эти классы, а потому менее знает их, или смотрит с ложной точки зрения на их недостатки. Последнее имеет более вероятия, потому что уменье его наблюдать, подмечать смешную сторону достаточно обнаружилось в изображении низших сословий. Для примера мы укажем на изображения женщин вообще и особенно русской хозяйки-дамы. Последнее составляет резкий образчик неверности и безвкусия. Отчего же?
Оттого, что тип русской хозяйки-дамы есть тип, до сих пор почти неуловимый для наших писателей; это тип современной русской женщины. Она прекрасна в действительности, между тем как редко является столько же прекрасною в нашей литературе, а г. Вельтмань не хочет даже признать красоты её. Наши беллетристы большею частию смотрят на русскую женщину с её смешной стороны, вместо того, чтоб изучать ее серьёзно, и не дают себе труда проследить её развитие на ряду с развитием всей общественной жизни нашей. У нас обыкновенно изображают женщину или девой, бессмысленно глядящей на луну, или каким-то почти небывалым на Руси синим-чулком, или тонною дамой, говорящею языком дипломатической депеши, или пошлою мещанкою во дворянстве. Из всех этих типов удается только последний, потому что он один есть в действительности; остальные же порождены воображением или подражательностию писателей. Не, так поступали те из наших беллетристов, у, которых кроме воображения и наблюдательности есть искра творчества художественного. Взгляните на женщин, изображенных г. Гончаровым, и подивитесь их. художественности и верности природе, их разнообразию и самобытности. Вспомните Полиньку Сакс, вспомните это милое создание, и согласитесь, что тут не близоруким глазом подсмотрены были тонкия фибры женского сердца, а чуткое ухо подслушало его биение: оттого так мило это создание, так полно оно жизненной теплоты. И, заметьте, ни г. Гончаров, ни г. Дружинин не льстили русской женщине, не старались в угоду самим себе скрыть её недостатки и тем заставить читателя насильно полюбить ее, потому что, вникая в действительность, они нигде не нашли совершенства. Теперь пронеситесь мыслью через ряд женщин, представленных в смешном виде Гоголем. Все они типы пошлости; но, выставляя их пошлость, он позаботился оживить их, сделать только верным подобием низкой действительности; во ни одного создания своего не опошлил он неуместным рассуждением и придуманными с умыслом, неидущими к делу фразами, не обвинил действительности за то, что она такова, какою он нашел ее. Юмор его оградил всех этих женщин от того презрения, каким г. Вельтман хочет заклеймить свою хозяйку-даму, называя ее фрёю. Мы готовы даже сказать, что многие из наших женщин, которые читали Гоголя, не обиделись, найдя у него похожее на себя изображение, а, напротив, внутренно скорбели за свою пошлость. Так благотворно действие юмора в художественных произведениях.
Г. Вельтман предпочел нарисовать карикатуры и прикрасить их построенными на ложной мысли рассуждениями и поклоненьем старине. Между тем, как его хозяйка-барыня пошла не оттого, что приняла чужие обычаи и сбросила с себя кокошник и душегрейку: она в этом наряде в сущности столько же пошла; но её недостатки только яснее обнаружились в одежде образованности, потому что, изъявив притязание на образованность, она не позаботилась о своем развитии и осталась прежнею невежественною женщиною с примесью чванства. Смешно и жалко видеть, как сквозь дыры её спесивого барства проглядывает мещанство. Г. Вельтман насмешливо замечает, что хозяйка-барыня есть шаг от так называемого невежества к так называемому просвещению. Действительно, это шаг, и наблюдение подтверждает это; только напрасно автор прибавил слова: «так называемому». Если исходною точкою этого шага считать тип хозяйки простого и старого быта, то эта точка не так называемое, а истинное невежество, которое в свое время, когда-то очень давно, было истинным просвещением, а теперь уже стало невежеством. Хотя лицо, описываемое г. Вельтманом, недалеко ушло от него, однако нельзя отвергать, что оно сделало шаг вперед. Мы скорее готовы допустить эпитет, «так называемый» рядом с просвещением; тут еще может быть основание в недостаточности той степени образованности, какой достигла русская женщина в настоящее время, – хотя все-таки он будет лишним, потому что степень эта не крайняя, а та самая, которой достигнуть позволило время, и от которой никто не мешает итти выше и выше. Хозяйка барыня не новость, а старина, над которой уже смеялись наши деды вместе с Фон-Визиным; это современница и родня Простаковых, которые, благодаря просвещению, вывелись. Мы бы посоветовали г. Вельтману обратиться за типом русской женщины-хозяйки не в Замоскворечье, а поискать его на широком лице России, тем более, что поиски в этом случае были бы не трудны и не напрасны. Не только в столицах наших, но и в деревнях и в бедных семействах, и в золоте и в скромном ситце, найдет он русскую женщину, дочь, жену и мать, которые ждут творческого пера наших романистов; и, воссоздав их, пусть тогда укажет он созданные им образы для подражания, вместо того, чтобы выставлять образцом невежественную хозяйку-бабу, которой хозяйственные заботы о солении рыжиков простираются до забвения о воспитании детей. Усовершенствование достигается не возвращением к старому порядку; освещая путь к лучшему будущему, вы легче искорените те погрешности настоящего, над которыми нам же теперь приходится смеяться.
Между тем автор «Приключений», столь неумолимый к недостатками высших классов, с особенной любовью изображает хорошие оттенки в невежестве. Любовь художника к своему созданию нам понятна и нравится; согревая их своею любовью, он творит лучше и всегда заставляет читателя также к ним привязываться. Чувство любви к своему созданию также, необходимо при творчестве, как чувство веры в истинность создания. Мы никогда не решимся упрекать художника в привязанности к своему вымыслу; но тут не должно быть личности; художник не должен привязываться к своим лицам, потому что они выражают его собственный образ мыслей. Впрочем, у Вельтмана эта любовь заметна более как контраст его нерасположению к некоторым действующим лицам его романа, с которыми он не сходится в своих понятиях, и мы обратили на нее внимание только потому, что заметили его пристрастие к этим последним. Не любите порочных в действительности: но, создавая их, пригрейте их вашим чувством, как собственных детей своих; а не отталкивайте от себя как подкидышей; иначе в наших глазах вы заподозрите законность их происхождения.
В этом отношении автор всего более погрешил против самой героини романа, Саломеи Петровны. Он олицетворил в ней гордость, в основании которой не лежит ни одного доброго, благородного, возвышенного чувства, могущего оправдать ее. Эта гордость, следствие дурного воспитания и безалаберного образа жизни в доме родителей, составляет именно главную причину падения Саломеи, ею-то вовлекается она в пороки и идет прямо к своей гибели. Правда, такая женщина в действительной жизни немногим внушит к себе любовь; но за что же художник, создавая тип такого существа, не станет любить его? Разве любить в своем произведении поэтическое олицетворение порока. Значит чтить порок? нисколько. Посмотрите, с какою любовью Мильтон очертил свою Сатану, и это вовсе не доказывает любви его к злу.
Таковы в общих чертах достоинства и недостатки обоих эпизодов г. Вельтмана.
Г. Дружинин после «Полиньки Сакс», «Разсказа Алексея Дмитрича» и «Фрейлейн Вильгельмины», о которых было в свое время говорено в нашем журнале, напечатал три новые произведения: «Жюли», роман в двух-частях (Современник 1849, № 1) «Шарлотта Штиглиц», истинное происшествие (Современник 1849, № 12) «Петергофский Фонтан», повесть (Библиотека для Чтения 1850, № 12). Лучшее из них роман «Жюли».
На одной из страстных страниц своей первой повести: «Полинька Сакс», так справедливо обратившей на себя внимание нашей публики, г. Дружинин выразил свое желание написать роман, построенный на оригинальной и очень счастливой мысли – «Вы, может быть, не знаете – писал он – какое болезненное, упоительное наслаждение мучить ребенка, за волосок, за улыбку которого мы готовы отдать пол-жизни. И еще как мучить!.. По этому поводу, я скоро расскажу вам другую историю…. грустную историю, странную историю».
Эта грустная и странная история – роман «Жюли». Всем читавшим первые произведения г. Дружинина: «Полиньку Сакс», «Разсказ Алексея Дмитрича», «Фрейлейн Вильгельмину», легко было заметить три главные достоинства его таланта: одушевленность речи, занимательность романической завязки и уменье драматизировать рассказываемое действие. Все эти свойства в той же степени выразились и в романе «Жюли».
Что бы ни говорили о таланте г. Дружинина журнальные критики, которые, – по своим причинам, обнаруживают к нему особенную неблагосклонность, нельзя не сознаться, что г. Дружинин принадлежит к немногому числу даровитых наших беллетристов. Талант его чисто беллетристический – определение, которое ни к кому из современных русских писателей не может быть приложено в такой степени, как к г. Дружинину. И, выражаясь в повестях и романах, беллетристический талант г» Дружинина еще сильнее выражается в других его произведениях, с которыми нередко встречаются читатели в «Современнике».
В X № «Современника» 1849 года появилось первое произведение новой писательницы, которой суждено было занять одно из самых видных мест в нашей литературе: мы говорим о повести Евгении Тур «Ошибка». С тех пор даровитая писательница напечатала немного; но все напечатанное ею носит на себе признаки несомненного таланта. «Ошибка» была одним из самых; замечательных явлений в изящной словесности 1849 года., Как ни велико существующее у нас предубеждение против всякого нового писателя и особенно писательницы, но читатель, пробежав несколько страниц этой повести, не может остановиться и доходит до конца её с возрастающим любопытством. Радуемся этому явлению, потому что участие женщины в нашей литературе чрезвычайно важно и полезно, при малочисленности, вообще литературных деятелей. Давно уже прошло то время, когда решительно всякой книге, подписанной женским именем, курили фимиам хвалений, как творению ручек и головки, исключительно предназначенных для шитья и расходной тетрадки. Будь даже иногда бездарна писательница, на нее смотрели как на диво, потому что считали всякий труд её вне сферы хозяйственной деятельности, явлением исключительным, а самую такую женщину интересною игрою природы. Этот предрассудок почти совершенно искоренился. Литературный труд, как для мужчины, так и для женщины, вошел в разряд дельных занятий, а не служит признаком вздорной мечтательности от безделья. Почти все убедились, что сочинять не значить выдумывать пустяки, а значит мыслить и ощущать потребность выражения этой мыслительной деятельности рядом произведений. Поэтому и самая критика в настоящее время смотрит одними и теми же глазами на труды как писателей, так и писательниц. И у тех и у других мы ищем таланта, мысли, взгляда на жизнь, на все, что занимает современного человека. Г-жа Евгения Тур принадлежит к числу немногих наших писательниц, которые, сознательно вступив на литературное поприще, своим талантом усвоили себе самостоятельную деятельность.
Её самостоятельность состоит не в огромности таланта, спорно замечательного, не в резкости и оригинальности характеров, не в свойственной женщинам пылкости и увлекательности рассказа, а в богатстве и зрелости мысли. Здесь, кажется, заключается главнейшая тайна занимательности «Ошибки». Г-жа Тур знает жизнь не по наслышке, не по книгам, которые удалось ей прочесть урывками, между балом и визитами, от скуки, от безделья. Нет, каждое слово её понято помощью сознательной опытности; ни выезды, ни балы, ни книги не ускользнули от её вдумчивости; она вглядывалась в явления ежедневной жизни как в дело важное для всякого, это хочет жить, а не тратить отсчитанные ему дни и, ночи; для неё каждая минута жизни должна быть действительно прожита, то есть, продумана, прочувствована, сознана.
Если бы нужно было пояснить сравнением, понятия наши о повести, о которой мы говорим, то мы указали бы на некоторое сходство её с произведениями Бальзака, принадлежащими к первой половине его литературной деятельности. Тоже обилие мыслей о жизни, и преимущественно светской, тоже внимание к разным мелким подробностям нравственного развития описываемых лиц, та же наблюдательность. Но, делая это сравнение, мы не можем забыть и того отличия, которое находим в нашей писательнице с знаменитостью французской литературы. Наблюдательность Бальзака хладнокровна: он смотрит на окружающих его людей для того, чтобы указать на них другим; он замечает всякое явление, всякое мелкое свойство предметов, для того, чтобы все увидели, что он знает их; в своих многочисленных, иногда даже до утомительности, описаниях, он рисуется сам; он знает, что когда говорит он, то все его слушают, и потому бьется из одобрительного отзыва, улыбки. Наблюдения и мысли г-жи Тур – её собственность, добытая жизнью. Ей нет дела, что нашлись бы люди, несогласные с её мнениями. Она высказывает то, что вошло в её убеждение, и готова защищать каждое свое слово. её описания и отступления становятся длинными, потому что ей хотелось бы все высказать, что знает она о занимающем ее предмете, уяснить его окончательно. Она ищет не одобрений, а сочувствия.
Повесть г-жи Тур отличается особенною простотою сюжета. Если хотите, романическое содержание повести вовсе не ново. Тысячу раз читали вы и сто тысячь раз видали на свете, что молодой человек сперва любит женщину, потом перестает любить, предпочитая ей кого-нибудь, и губит ее своим охлаждением. Все это вы давно знаете, и если бы вас просили пересказать, в чем заключается повесть «Ошибка», вы, не нарушая добросовестности, принуждены были бы ответить: «не могу; прочтите сами». Эта невозможность есть одно из самых лучших доказательств, какое важное место занимает в этой повести мыслительность автора. Г-жа Тур с самых первых страниц вводит вас в волшебную сферу своего анализа и знакомит с тем, что составляет силу её таланта.
Здесь, в письме матери героя повести, вы знакомитесь с личностью этой женщины. Славина – женщина, долго и не напрасно жившая в свете. Она вынесла из него, может быть, несколько холодный, зато совершенно практический и верный взгляд на жизнь людей и людские страсти и привязанности. В основании её взгляда на жизнь лежит убеждение, что «жизнь есть исполнение известных обязанностей, вмещенных в весьма тесный и ограниченный круг, назначенный каждому его рождением». В таком взгляде, очевидно, проглядывала односторонность, и о многом Славина судила поверхностно; но вообще это была женщина умная, положительная, и большая часть её советов сыну – неопровержимо-основательны. Славина разом поняла, к какого рода привязанности принадлежит любовь Александра к Ольге: в письме своем она употребила все старания доказать сыну, что он обманул себя, предполагая в своем сердце страстную любовь к бедной, несветской девушке, для которой радости домашнего очага составляли великое наслаждение, – что он, одним словом, сделал ошибку. Но Славин не открыл своих глаз, – и ошибка пошла еще далее и кончилась, как кончается все ложное; а между тем, сбылось все предсказанное Славиною.
О женщине таких убеждений надо было, значит, говорить с величайшей осторожностью, чтоб не причислить ее к натурам черствым, эгоистическим, к которым Славина вовсе не принадлежала. И мы не можем не отдать в этом случае должной справедливости г-же Тур.
В произведениях писательниц вы редко встретите так называемых положительных женщин; а если и есть они, то авторы, вводят их для того, чтобы изливать на них всю жолчь свою. И как бы писательница ни была проникнута любовью, но о таких женщинах не может говорить без чрезмерного увлечения, следствием которого почти всегда бывает если не совершенная ошибочность, то, по крайней, мере односторонность суждений. Как же, при таких условиях, со спокойным анализом приступить к женщине, подобной Славиной! Но дарование г-жи Тур не разбилось об этот пробный камень, и помощию верного взгляда на жизнь, который знает всему свое место, она обошла все крайности, указав на светлые и темные стороны убеждений матери Александра.
Превосходно также очерчен и характер Славина – одного из целой шеренги тех светских людей, которые, при всех своих добрых стремлениях, остаются людьми довольно пустыми и слабыми. нисколько не удовлетворяясь итогом и, вместе с тем, бесполезностью своих, похождений в обществе, они не имеют сил отрешиться от такой скудной содержанием жизни, – без милосердия надувают себя в своих чувствах и, возбуждая любовь. К себе существа прекрасного, кончают тем, что, увлеченные мнимым блеском, падают ниц перед женщиной совершенно противоположной натуры и даже вступают с нею в брак. Плачевные последствия известны: или полное ничтожество, равнодушно взирающее на неверность жены и платящее ей тою же монетою, или безвыходная апатия, или жизнь очертя-голову.
Ольга – характер, не часто встречающийся в действительности в таких размерах, в каких изобразила его г-жа Тур. Если хотите, такая женщина – идеал, которому трудно найти образец в числе ваших знакомых; но как ни возвышенна эта личность, мы не можем назвать ее исключением, потому что все преувеличение её заключается в некоторых подробностях, а главное – в начитанности и степени самосознания: сущность же её женской натуры полна истинности. Без сомнения, вы видели женщин, которых Ольга должна была вам напомнить собою: но в каждой из них вы могли не досчитаться того или другого качества или признака, который мог бы только увеличить прелесть достоинства, а может быть и трагичность судьбы вашей знакомки.
Мы не указываем на множество прекрасных подробностей, которыми испещрена эта повесть, потому что это значило бы останавливаться почти на каждой сцене, на каждой странице, наполненной то меткими наблюдениями, то глубокомыслием, вырвавшимися словами.
Г-жа Тур начала свое поприще литературное, как удается немногим, и, что всего важнее, она не обманула надежд, возбужденных первым произведением. Напротив, во втором своем произведении она обнаружила еще более признаков таланта зрелого и глубокого. Значительная часть этого второго произведения, еще неоконченного, была помещена также в «Современнике» (1850, №№ I, II, III, IV). В «Современнике» же (1850, № XI) было помещено третье произведение г-жи Тур – повесть «Долг».
Самым лучшим произведением, появившимся в 1849 году, был, мы можем смело сказать, помещенный в «Литературном Сборнике», изданном редакциею Современника, отрывок: «Сон Обломова». Г. Гончаров, с разу ставший в ряд самых даровитых и известных писателей наших, в этом новом произведении своем показал еще образчик своего художественного мастерства. Читатели уже оценили достаточно талант г. Гончарова по его «Обыкновенной Истории», которую критика также встретила с должным уважением, хотя и менее отдала справедливости его «Ивану Савичу Поджабрину». Может быть, многие не согласятся с нами; но, по личному убеждению пишущего эти строки, – этот очерк в некотором отношении имеет даже преимущество пред «Обыкновенной Историей». Если отделка частностей, обширность целого создания представляли более трудностей, а следовательно и заслуг для автора, в последней, то целость и оконченность более выиграли в небольшом очерке характера и образа жизни жуира Поджабрина. Новый отрывок, составляющий, впрочем, полное целое, по нашему мнению, есть произведение совершенное в художественном отношении. Это произведение, на которое можно было бы указать, как на образец понимания истинного художества псевдо-реальной школе, о которой было говорено в обзоре литературы за 1848 год, – школе, в настоящее время утратившей, к счастию, всю свою первоначальную привлекательность. Сравнивая картины г. Гончарова с произведениями этого псевдохудожества, можно понять различие между творчеством истинного таланта и труженическою рисовкою непризванных художников. В свое время один из сотрудников «Современника» высказал довольно ясно недостатки этой школы, которая, во что бы то ни стало, добивалась художественности в своих произведениях. Увлеченная талантом Гоголя, она поставила себе целью достижение верности природе, действительности. Задача прекрасная, потому что это цель искусства. Но для достижения этой цели необходимы средства, а главное – талант и уменье воспользоваться этими средствами. Говоря о г. Вельтмане. Мы достаточно объяснили значение фантазии в поэтическом творчестве и определили наше понятие об истинно художественных созданиях; они, по нашему мнению, должны быть столько похожи на действительность, что только отсутствие составных химических частей материи ее позволяет им быть действительными существами. Такое творчество, такая художественная живопись в литературных произведениям доступны только истинному таланту и не достижимы одним усиленным трудом. Нам приходит на память замечание Вильмера о Жан-Поле-Рихтере, которое поясняет силу художественного творчества: творец «Титана», по словам знаменитого профессора, подобно Рубенсу, умел одною чертою пересоздать веселое лицо в печальное. Вот в этом-то уменьи проводить такие черты, по нашему, и заключается сила творчества. Проводя одну черту, художник вливает жизнь в свое создание; а кто, кроме художника, проведет ее так, чтоб не исказить целого создания? Приобрести это уменье одним трудом невозможно. Всякому, кого природа не наделила даром творчества, мы советовали бы бросить кисть живописца и, взявшись за скромный карандаш, вместо неудачного копирования природы, набрасывать на бумагу более или менее умные заметки о том, что есть великого и простого в действительности, доступной наблюдению; пусть оставит он художественность на долю талантов, подобных г. Гончарову. Им кисти в руки, потому что только в их руках кисть есть орудие для истинного воссоздания действительности.