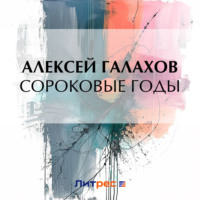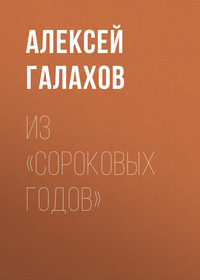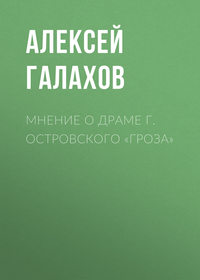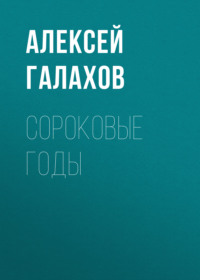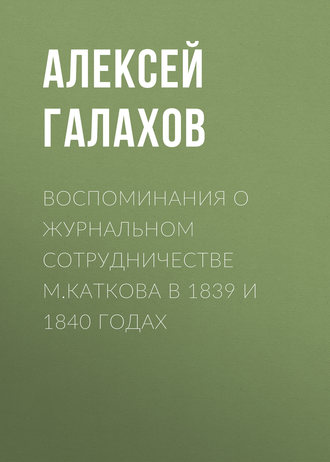 полная версия
полная версияВоспоминания о журнальном сотрудничестве М.Каткова в 1839 и 1840 годах
Кроме вышеизложенных четырех критических отзывов, Каткову принадлежат еще многие рецензии в «Библиографической хронике» тех же двух годов (1839 и 1840 гг.) «Отечественных Записок»[7]. Не смотря на их краткость, они свидетельствуют о сильном таланте, большой научной заправке и рельефном слоге рецензента. В особенности сильно высказывается влияние на него немецкой философии (Гегеля). Каждое суждение его о той или другой книге выражает нечто новое, открывает какую-либо сторону предмета, на которую прежде или вовсе не обращали внимания или обходили ее общими фразами… Нападки на ум, похвалы непосредственному, животному чувству, осуждение современного века за его будто бы материальное направление, короче, все то, что тогда обзывалось мракобесием, или обскуратизмом, встречали в юном критике мужественный отпор, заслуженное бичевание. Приведу два примера. В «Терапевтическом Журнале», за 1839 год, доктор Зацепин печатал свое сочинение «О жизни», странное по содержанию и изложению, какой-то уродливый мистико-философско-богословский трактат, с частыми выходками против ума. Катков, по этому случаю, пишет: «К чему эти нападки на то, что выше всяких нападок?.. Ум? не есть ли ум та божественная искра, которою человек отличен от животного, не есть ли то самое бесконечное, которое организировалось в конечной форме? Чувство? но чувство есть форма животной жизни: оно тогда только становится истинно-человеческим, когда наполнено разумным содержанием». Та же мысль развивается обстоятельнее в другом месте следующим образом:
«Все ум виноват! Позвольте, господа, не торопитесь своими проклятиями: ведь это дело не шуточное. Зачем вы видите ум только в практической стороне жизни, в успехах промышленности, железных дорогах и паровых машинах, словом, в одной только внешней полезности? Вы говорите только о чувстве, только в нем видите откровение истины, а на ум смотрите как на грех и заразу, – но ведь вы этим профанируете самое чувство… Чувство есть тот же разум, но разум, так сказать, еще чувственный, заключающийся в условиях организма, не отрешившийся от владычества плоти, не ставший духом в духе. Оно требует просветления, которое возможно только через мысль, через знание, словом через ум. Те, которые нападают на ум, обыкновенно почитают истинность и благость неотъемлемою принадлежностью чувства, и думают, что чувство никогда не ошибается и не заблуждается. Грубое заблуждение, которое из разума делает инстинкт, а из людей – животных! Чувство есть ощущение, а ощущения бывают и благие и злые, и истинные и ложные, как и мысли. Из одного и того же сердца исходит и доброе, и злое. Когда человек прощает своему врагу – он действует по внушению сердца; когда человек убивает своего врага – он действует опять по внушению того же самого сердца. Следовательно, сердце требует нравственного воспитания, духовного развития, которое возможно только при посредстве разума. Предоставленное самому себе и чуждающееся разумности, чувство и гаснет, и колобродит, и бывает даже источником преступления и злодейства. Испанцы, во имя Вечной Любви, страдающей и умирающей за её же мучителей, перерезали целые племена и обагрили кровию целую часть света. И это они сделали будто бы по религиозному чувству, так же как и основали инквизицию для того, чтобы на кострах жечь еретиков, т. е. людей, признающих, кроме чувства, еще и разум».
Другой пример дает рецензия книги: «Обед, каких не бывало, сочинение Ф. Глинки». В 1839 году в Москве открылись столы для бедных, устроенные некоторыми благотворителями. По билету в один рубль, выданный нищему, этот последний мог обедать ежедневно в течение целого месяца. Ф. Н. Глинка, бывши свидетелем такого отрадного зрелища, выразил свои чувства, примешав к ним осуждение XIX-го века, «чувственного и внешнего, развившего в огромных объемах ум свой и забывшего про сердце», как он выразился. Катков отвергает такой пессимистический взгляд:
«Автор (говорит он) приступает к делу лирическою выходкою против XIX века. Он отнимает у нашего века всякое достоинство, всякую духовность; видит в нем один разврат, одну материальность; пировою храминою его жизни называет биржу – место ума (?), расчета и торга; говорит, что теперь религия испарилась, как дорогой аромат из позлащенного сосуда… Бедный век! или и в самом деле ты одряхлел, как умирающий лев в басне Крылова, и потому на тебя так все нападают? Или ты виноват перед всеми, которые увидели свет Божий прежде нежели ты увидел его, и сердятся на тебя за то, что не хотят понять тебя? Иди, наконец, на тебя потому нападают все, что каждый видит в тебе – понятие, а не человека, которые мог бы подать просьбу за бесчестье и увечье?.. Тебя бранят и поносят на безрелигиозность, в то самое время, когда ты водружаешь знамение креста даже в Австралии, между дикими получеловеками; в то время, как ты передал Слово Божие, глагол вечной жизни, на языки всех народов и племен земного шара; в то время, когда ты, отвергшись заблуждений прошлого, так называемого лучшего века, не одним сердцем, но и разумом своим, признал Благовестие Богочеловека высшею истиною, небесною и божественною мудростью, предвечным и единым разумом, открывшим себя в очевидности явления – словом воплотившимся! Тебя бранят и поносят за меркантильность направления, за эгоизм и сибаритство, за жестокосердную холодность к страданию ближнего – и когда же? – в то самое время, когда ты открываешь сиротские приюты, комитеты для призрения бедных, даешь „обеды каких не бывало“, словом, когда ты христианские подвиги милосердия и любви к ближнему делаешь уже долгом или добровольным порывом не частных лиц, но делом общественным, государственным!.. Ф. Н. Глинка хочет видеть представителей века в романистах, которых называет „угодниками общества“; это все равно, что судить о красоте русских городов не по Москве и Петербургу, а по Тамбову и Пензе. Далее, Ф. Н. Глинка хочет судить о веке по французским романистам, справедливо называя их „угодниками общества на ловитве ощущений“: это все равно, что по двум или трем пьяным мужикам судить об образованности русского народа, видя в них его представителей. Вольно же порицателям XIX века смотреть на него из Парижа и в Париже! Да и не лучше ли б было им в том же Париже взглянуть не на одну его грязную литературу, а на пример – на его публичные больницы, где знаменитейшие врачи Европы посвящают свою деятельность на облегчение страждущего человечества, где уход на больными и порядок во внутреннем устройстве и хозяйстве свидетельствуют о высокой христианской филантропии»[8].
Как, впоследствии, относился М. Н. Катков к выше изложенным журнальным работам для «Отечественных Записок?»[9]. Само собою, разумеется, что он видел в них только пробу пера, изощряемого и готовившагося для более широкой и плодотворной деятельности, но он вспоминал с удовольствием о критических опытах своего юношества, особенно об оценке таланта Сарры Толстой, и любил говорить о них в кругу приятелей, как это видно из прилагаемых при сем двух его ко мне писем. Первое письмо, или скорее записка, получено мною 18-го октября 1856 года, в ответ на мое приглашение отобедать у меня, вместе с другими близкими и присными мне людьми, по поводу моего переселения из Москвы в Петербург. По тесноте моей квартиры, В. П. Боткин устроил обед у себя, в доме своего отца. Кроме самого хозяина, были Грановский, Кудрявцев, И. С. Тургенев, Кетчер, Катков, Леонтьев… (увы! этот список есть вместе и поминки умерших)… и несколько других лиц, еще живых и здравствующих. Вот, что писал Катков:
«Вменяю себе в особенную честь ваше любезное приглашение и с радостью им воспользуюсь, чтобы в кругу людей, равно нам близких, и вместе с ними выразить то глубокое уважение, которое всегда соединяло и будет соединять нас с вами. Кроме общего признания ваших заслуг и ваших нравственных качеств, для меня лично воспоминание о вас имеет еще особое значение: с ним соединено еще дорогое для меня воспоминание моей первой молодости. Где бы ни случилось нам встретиться, всегда дружески протянем мы друг другу руку и, я уверен, не изменимся никогда в нашем взаимном уважении и приязни».
Второе письмо (31 января 1858 г.) извещает меня, жившего уже в Петербурге, о смерти Кудрявцева:
«Простите меня, дорогой Алексей Дмитриевич, за мое молчание на ваш привет, который тронул меня до глубины души. Поверьте, ваше сочувствие, ваше доброе расположение и к моей деятельности, и ко мне лично, ценю высоко и вижу в том истинную для себя награду и утешение. Как вы знаете меня с давних пор, так точно и я помню вас с той самой поры, когда пробуждалась во мне мысль, и первые попытки её неразрывно связаны с воспоминанием о вас, о той доброте, том доброжелательстве, том благородном сочувствии ко всему молодому, свежему, нравственно-чистому, которые всегда отличали вас. Я не писал к вам просто потому, что был подавлен страшным грузом трудов, забот, горя. Выдалась же полоса! Бывали минуты, когда я приходил в совершенное отчаяние. С одной стороны – туча неблагоприятных и слухов, и предчувствий с севера[10], с другой – быстрое, ужасное угасание вашего Петра Николаевича[11], а тут обычным потоком. ни на минуту не останавливающимся, дела, дела, дела, которые падали на меня всею своею тяжестью. Да! к потере Петра Николаевича трудно привыкнуть. Многого с его смертью не досчитаем мы в нашем капитале. Мне он был особенно дорог, как нравственная поддержка, по сходству многих заветных убеждений. Жизнь с каждым днем становится труднее и суровее.
Без сомнения, вы имеете все право участвовать в издании сочинений Кудрявцева и в составлении его биографии[12]. Мне, кажется, эту последнюю обязанность могли бы разделить вы с Павлом Михайловичем[13], который если еще не писал, то на-днях будет писать к вам. Воспоминаний ваших ждем с нетерпением[14].
За статью вашу о Лермонтове, приношу вам сердечную благодарность[15]. Я считаю ее одним из лучших приобретений журнала. Мне было дорого и отрадно видеть то доверие, с которым вы отдавали ее мне, но говорю вам откровенно и по чистой совести, что я не встретил в ней ни одной мысли, в которой не был бы согласен с вами. Я буду печатать ее не просто, как прекрасную статью, но и как статью совершенно мне сочувственную. Жду с нетерпением второй половины.
Какое снова тяжкое испытание наступает для литературы! Сколько опять накипает на душе самых мрачных чувствований! Скажите, что выйдет из этих колебаний, из этих затягиваний и отпущений, и опять затягиваний, из этого вечного поддразниванья? И когда же? в то время, как, по-видимому, единственная и существенная поддержка П-ву[16] представляется лишь в свободном развитии мысли и слова. Напрасно суемся мы с нашими сочувствиями: нас отталкивают презрительнейшим образом. Так и быть! Будем ждать, что Бог даст.
Вы пишете, что в мае будете в Москве. Заранее радуюсь этому и надеюсь, что будем гораздо чаще видаться, нежели прошлое лето. Обнимаю вас от всей души.
СПИСОКстатей М. H. Каткова в „Отечественных Записках“ 1839 и 1840 годов[17].А. Статьи в отделе критики. 1839 года.1. „Песни Русского народа“, собранные Сахаровым (т. IV, стр. 1-24, 25-92).
2. „Основания Русской стилистики“, Зиновьева (т. VI, стр. 47-64).
1840 года.
3. (История древней Русской Словесности», Максимовича, книга 1 (т. IX, стр. 37-72).
4. «Сочинения в стихах и прозе», гр. Сарры Толстой, перевод с немецкого и англ. (т. XII, стр. 15-50).
Б. Статьи в Библиографической хронике. 1839 года.5. «Очерки с лучших произведений живописи, ваяния и зодчества», издание Тромонина, 2 выи. (т. V, стр. 62 и 153).
6. «Практическая перспектива», соч. Ястребцова, ч. I (ibid., стр. 64).
7. «Графиня Евгения», соч. Евисихиева (ibid., стр. 121).
8. «Талисман», фантастический роман (ibid., стр. 134).
9. «Путешествие в Смоленск», Бороградского (ibid, стр. 136).
10. «Картины Бородинской битвы», соч. Кузмичева (ibid., стр. 136).
11. «Димитрий Донской», И. Г. (ibid., стр. 137).
12. «О жизни, доктора Зацепина» (ibid., стр., 142).
13. «Сын миллионера», роман Цоль-де-Кока (т. VI. стр. 37).
14. «Карманная книжка о ценности российской и иностранной монеты» (ibid., стр. 56).
15. «О жизни», И. Зацепина, продолжение (ibid., стр. 61).
16. «О болезненных влияниях в Германии», И. Зацепина (ibid., стр. 63).
17. «Полное изложение правил весеннего лечения болезней» (ibid., стр. 70).
18. «Очерки с произведений живописи», тетрадь 3 (ibid., стр. 86).
19. «Сочинения гр. Сарры Ф. Толстой», т. I (ibid., стр, 131).
20. «Илиада Гомера», изд, 2, ч. 2 (ibid., стр. 146).
21. «Практич. Перспектива», Ястребилова, ч. 2 (ibid., стр. 158).
22. «Sammlung Christlicher Lieder» (ibid., стр. 200).
23. «Речи в торжественном собрании 1-й Московской гимназии» (т. VII, стр. 65).
24. «Выбор образцов из немецк. прозаиков и стихотворцев» (ibid., 75).
25. «Светопись по методе Тальбо и Лассена» (ibid., 77).
26. «Торжество заложения храма во имя Спасителя в Москве» (ibid., 79).
1840 года.27. «Азбука для малолетних детей» (т. VIII, стр. 27).
28. «Перенесение тела князя Багратиона» (ib., 30).
29. «Обед, каких не бывало», Ф. Глинки (ib., 30).
30. «Очерки произведений живописи, скульптуры и пр.», тетр. 6 и 7 (ib., 35).
31. «Описание практического употребления дагерротипа» (ib., 36).
32. «Конек Горбунок», Ершова, изд. 11 (ib., 58).
33. «Поход Кира Младшаго» (т. IX, стр. 57).
34. «Карманный латино-русский словарь», Болдырева (ib., 58).
35. «Полезное чтение для детей» (ib., 60).
36. «Начальный курс рисования» (ib., 62).
37. «Хива, или описание (геогр. и стат.) Хивинского ханства» (ib., 63).
38. «Басни Хемницера» (т. X, стр. 7).
39. «Странник, Вельтмана» ч. 1, изд. 2 (ib., 7).
40. «Москве благотворительной», стихотворение Ф. Глинки (ib., 12).
41. «Народный Русский песенник» (ib., 25).
42. «Балакирева полное собрание анекдотов» (ib., 27).
43. «Похвала глупости», Эразма Ротердамского (ib., 27).
44. «Описание посольства от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II» (ib., 29).
45. «О мере наказаний», профессора Баршева (ib.. 33).
46. «Юридическая Библиотека», Наливкина, тетрадь 1 (ib., 34).
47. «Подарок детям в день Христова воскресения» (ib., 43).
48. «Разговор нянюшки с детьми» (ib., 43).
49. «История несчастий жука и похождений муравья» (ib., 43).
50. «Деревенский телеграф, днем и ночью» (ib., 43).
51. «Азбучка-игрушка для детей» (ib., 43).
52. «Двойная английская бухгалтерия» (ib., 46).
53. «Практические упражнения в бухгалтерии» (ib., 46).
54. «Мои счастливейшие минуты в жизни», Стихотворения князя А. И. Долгорукова (ib., 52).
55. «Стихотворения» Н. И. (ib., 52).
56. «Юрий, последний великий князь Смоленский», кн. 1 (ib., 53).
57. «Очерки России», издаваемые В. Пассеком, кн. 3 (ib., 59).
58. «Юрий, последний великий князь Смоленский», кн. 2 (т. XI, стр. 38).
Стихотворения в «Отечественных Записках» 1839 года1. «Разставанье» (из Гейне). Том IV, отд. III (Словесность).
2. «Мой милый в мир потел им любоваться» (из Рюккерта), ib.
3. «Страдание в удел ты получила» (Гейне), ib.
4. «Ратклиф» (из Гейне). Том VI, отд. III.
5. «Гренадиры» (из Гейне). Том IX, отд. III.
6. «Кубок и вино» (из Рюккерта). Том XI, отд. III.
«Исторический Вестник», № 1, 1888.Сноски
1
«Отечественные Записки» 1839 год (т. IV. отдел VI, стр. 1-24 и 25-92).
2
«Отеч. Записки», 1839 г. (т. VI, отд. VI, стр. 47-64).
3
Без разбора, смешанно.
4
Ранней смерти.
5
Журнал «Телескоп», 1834 г.
6
«Отечеств. Записки», 1830 г., т. VI, Библиографическая хроника.
7
Список их приложен в конце статьи.
8
«Отечественные Записки», т. VIII, отдел VI (Библиографическая хроника, стр. 31-32).
9
Кроме их, он сотрудничал в «Москов. Наблюдателе», под редакцией Белинского, 1838 и 1839 гг.
10
Из Петербурга.
11
Кудрявцева, профессора Московского университета.
12
Намерение это тогда не осуществилось.
13
Леонтьевым, профессором Московского университета.
14
Воспоминания о Кудрявцеве («Русский Вестн.», 1858 г., т. XIII, № 4).
15
Лермонтов, 3 статьи (ibid., 1858 г., т. XVI, No№ 13, 14 и 16).
16
Правительству. Разумеются цензурные строгости тогдашнего времени.
17
Все статьи, как в отделе «Критики», так и в отделе «Библиографической Хроники», по условию, положенному редакцией журнала, без подписи авторов. Но я вел обстоятельные списки книг, подлежащих рассмотрению, с обозначением какие из них поступали ко мне, Белинскому, Каткову и Кудрявцеву. Эти списки сохраняются у меня в целости.