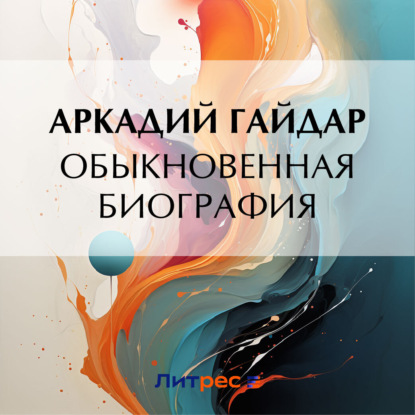полная версия
полная версияОбыкновенная биография

Аркадий Гайдар
Обыкновенная биография
Часть первая
В Воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много [раненых][1] шахтеров с линии Миллерово – Луганск – Дебальцево. Мест не хватало. Мне выдали пару новых, пахнущих свежей сосною костылей, отпускной билет и проездной литер на родину, [в городок Арзамас].
Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних рваных и запачканных кровью, – и подошел к позолоченному полинялому зеркалу [стоявшему в углу приемной].
Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе самого себя с обветренным похудевшим лицом и серьезными, но всегда веселыми глазами.
[И узнавал я в себе и не узнавал того озорного четырнадцатилетнего мальчугана, который полтора года тому назад убежал из школы.]
Полтора года прошло с тех пор [когда, обозлившись, из отцовского маузера всадил я в паркетный пол школы пулю]. И когда, испугавшись, убежал я из нашего города Арзамаса.
С тех пор прошло многое: Октябрь, Боевая дружина сормовских рабочих, Особый революционный отряд, фронт, плен, гибель Чубука, прием в партию, пуля под Новохоперском и госпиталь.
Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение покачивает и слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову.
Тогда я подпоясался. Сунул за пояс тот самый, давнишний маузер, из-за которого было столько беды в школьные годы, и, притопывая белыми, свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву.
Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса.
И еще сердитый комендант дал мне записку на продпункт, чтобы выдали мне хлеб, сахар, селедку и махорку в двойном размере – как отпускнику-раненому.
Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт.
Около года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время два или три коротеньких письма, но адреса своего сообщить ей не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было, да если бы и были, то и это не помогло бы, потому что орудовал наш маленький отряд больше по тылам сначала у немцев, потом у гайдамаков и у белых.
А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно – чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только без толку расплачется и разволнуется.
Санитарный порожняк торопился на восток, где в это время шли крепкие бои с Колчаком. Уплывали одна за другою станции, чужие, незнакомые, но все так похожие одна на другую – забитые, грязные, кричащие, звенящие, лязгающие оружием, расцвеченные красными флагами и плакатами.
Мелькнет вокзал, красноармейцы, выстроившиеся с котелками возле дымящейся походной кухни.
Дернет за сердце прорвавшийся через грохот колес напев гармоники, дунет морозный ветер – запахом дыма, сена, лошадиного навоза и карболки.
Врежется в память посиневшее лицо рабочего-дружинника, опоясанного пулеметной лентой на вылинялой кожаной тужурке, отягощенной брезентовым патронташем.
Улыбнется и махнет рукой женщина, вероятно, работница. Да и какая там женщина – просто веселая девчонка с наганом у кожаного пояса.
И опять дальше поле, а в поле за сугробами далекие дороги и далекие деревни, села, и в каждой деревне свой Деникин, в каждом селе свой Колчак, свои красные, своя ненависть и борьба.
Поезд прорвался за Муром, и вместе с ударами станционных колоколов сразу зазвучали имена станций, разъездов, полустанков, давно знакомых еще по детству, по школе, по семье… Мунтолово, Балахониха, Костылиха…
Давно ли? Нет, впрочем, давно, очень-очень давно – года четыре или лет пять назад отец взял меня с собой в Костылиху, куда ездил в гости к тамошнему учителю Федору Матвеевичу… Там мы спали на сеновале, потом пили чай с крыжовником, потом мы ходили купаться, и когда шли назад, отец и учитель и еще две какие-то хорошие женщины, то все они пели песню, которую я силился сейчас вспомнить, но никак не мог.
Отец гудел басом, как церковный колокол. А одна из хороших женщин, та, которую звали Маруся, пела так звонко-звонко, что я схватил ее за руку и так прошел с нею всю дорогу – тихонько и молча.
Потом, когда уже дома я рассказывал об этом матери, мама сказала мне, что эта Маруся нехорошая женщина, и заплакала… И когда отец стал успокаивать мать и стал говорить, что он и сам не находит в Марусе ничего хорошего, то и тогда я остался при своем убеждении, что эта Маруся все-таки хорошая.
Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса, они росли, вырисовываясь все ярче, ярче… так что я теперь мог уже различить и [широкую] гору собора, и тонкую, как мечеть, колокольню Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу.
Тогда поезд завернул влево и ушел в лес, в тот самый детский лес, в котором мне были знакомы каждый бугорок, каждая поляна и каждая ложбина.
Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Передо мною стояла красная сестра с поезда.
– Приехали, – мягко сказала она. – Сойдешь, постарайся найти лошадь. А если не найдешь, то иди потихоньку и чаще отдыхай.
– Хорошо, – ответил я, – я потихонечку. – А сам о поспешностью, какую только позволяли мне мои костыли, затопал к дверям останавливающегося вагона.
Извозчиков не было. Стояло несколько подводчиков, приехавших за грузом на станцию. Я задумался. До города было километра четыре – сначала полем, потом через овраг, потом через перелесок. Такой длинный путь с моей простреленной ногой мне было пройти нелегко. Но делать было нечего. Я поправил вещевой мешок за плечами и пошел по гладкой, накатанной дороге. Я шел потихоньку, а мне хотелось бежать. Но когда я пробовал ускорить ход, костыли начинали скользить по обледенелым колеям или проваливаться в снег, а нога начинала неметь и ныть.
– Э-эй! – услышал вдруг я позади себя окрик.
Я хотел посторониться. Но посторониться было некуда, потому что я был в ложбине, занесенной снегом, где только-только могла проехать одна лошадь. А в сугроб свернуть мне было нельзя…
– Эй, – окликнули меня опять сзади. – Дай дорогу!
Тогда я рассерженно обернулся и, опираясь на костыли, встал поперек пути.
С саней соскочил подводчик, подошел ко мне и, разглядев, в чем дело, сказал, смутившись:
– Садись, солдат, подвезу.
Я взобрался на сани, груженные мешками с овсом… и с любопытством посмотрел на подводчика.
Ему было лет сорок, он был небрит, нос его был красен, щеки одутловаты, на голове у него была заячья шапка с ушами, а одет он был в [старую] форменную шинель – такую, какие носили раньше учителя и акцизные чиновники…
«Неужели это он? – подумал я. – Конечно, он!»
– С какого фронта? – спросил подводчик, завертывая толстую цигарку из махорки.
– С Южного, – ответил я ему, улыбаясь. – Александр Васильевич, это вы, а это я.
– Что значит «это вы, а это я»? – удивленно переспросил он, вынимая изо рта цигарку и поднимая на меня мутные маленькие глаза. – Го-о-ориков? вполголоса вскрикнул он. – Го-о-ориков! – Он снял толстую брезентовую рукавицу и протянул мне руку: – Ну, здравствуйте.
– Здравствуйте, – весело ответил я. – Как живы-здоровы, Александр Васильевич?
– Жив… – ответил он, – и жив и здоров… А вы, я как вижу, не совсем?
– Нет, и я совсем! Я тоже и жив и здоров, а это… – и я толкнул рукой костыль, – это пустяк, это временно.
Лошадь тихонько бежала по узкой дорожке через перелесок. Мы оба замолчали. Каждый из нас думал о своем.
Я вспоминал: тишину, черное пятно классной доски, форменный сюртук с блестящими пуговицами и монотонный, ровный голос: «В 1721 году по Ништадтскому миру Швеция должна была признать себя побежденной. Великая Российская империя приобрела устье Невы, Кронштадт и северное начало исторического пути, связывающего Европу и Азию…»
Он, вероятно, думал:
«В 1917 году Великая Российская империя была побеждена и завоевана людьми, приобретшими начало пути, который должен, по их замыслам, связать и Европу, и Азию, и весь мир в одно целое. И вот я, дворянин, коллежский советник Александр Васильевич Воронин, учитель, в порядке трудповинности посланный за овсом на вокзал, везу сейчас раненого большевика, и даже не большевика, а большевистского мальчишку, которого два года тому назад я учил тому, что Великая империя непобедима».
Он довез меня до самого дома и, хмуро кивнув головой на мое «спасибо», повез сдавать овес в упродком[2].
А я, с опаской посмотрев на окна нашей квартиры, зашагал во двор, радуясь тому, что окна заледенели и через них ничего не видать.
Стараясь не стучать, я поднялся по лестнице, осторожно отставил костыли в угол за шкаф и постучал в дверь.
За дверями послышался мелкий топот. И по пыхтенью я понял, что это Танюшка тужится, открывая крючок двери.
– Мама дома? – спросил я у не узнавшей меня сестренки.
– Нет! – ответила она, и испуганные глаза ее блеснули слезинками.
– А-ах… не-ет! – весело закричал я, подхватывая костыли и вваливаясь в комнату. – А-ах… нет! А ты без мамы и пускать меня не хочешь!..
Я сбросил сумку, шинель и, усевшись на кровати, обнял не совсем еще оправившуюся от испуга девчурку.
– Господи, Борька!.. Ну, Борька!.. Ну, какой ты ужасный солдат! Ну, как папа был солдат, так и ты солдат… – стрекотала Танюшка. И, целуя меня, она добавила протяжно и укоризненно: – Бо-о-орька! Борька! И что ты как давно не писал, а уже мама думала, думала. И я тоже думала, думала. Да вот погоди она сейчас с базара придет – все сама расскажет.
Я оглянулся. Все стояло на старом месте… и шкаф, и кровать, и старый треногий диван. Я посмотрел на стену – там было новое.
Прямо со стены глядел на меня большой портрет отца – в такой же, как у меня, серой папахе и в такой же шинели, и был тот портрет обведен траурной каймою из красной и черной материи.
– Это тебя на войне убили? – спросила Танюшка, осторожно дотрагиваясь пальцем до костыля.
– На войне! – рассмеялся я и сунул костыли под кровать.
– А у нас, Борька, горе какое! Ну такое горе! Такое горе! – И сестра грустно посмотрела на меня.
– Какое еще горе? – встревоженно спросил я, пододвигая ее к себе.
– А такое горе, что Лизочка уже умерла!
– Какая еще Лизочка? – спросил я, не понимая и перебирая в памяти всю веселую ораву моих двоюродных сестричек, живших в деревне неподалеку от Арзамаса.
– Как – какая? – И Танюшка подняла на меня печальные и изумленные глаза. – А наша-то Лизка – кошка такая. Помнишь? Да она-то еще один раз с печки спрыгнула – и молоко опрокинула. Ну, вспомнил теперь?..
– Вспомнил, Танюша!
Пришла мать. Распахнув дверь, она остановилась. Внимательно посмотрела на меня. Поставила на пол корзину и, подойдя, крепко обняла меня. Сбросила платок, холодными от мороза руками взяла мою голову, посмотрела мне в лицо и сказала дрогнувшим голосом:
– Похудел. Побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты с кровати! Дай я на тебя посмотрю.
– Мне, мама, неохота с кровати вставать, – отказался я. – Я бы, пожалуй… да у меня нога немного побаливает.
– Отчего побаливает? – И мать подозрительно посмотрела вокруг. – То-то я слышу, что йодоформом пахнет.
– А оттого побаливает, что еще не зажила. То есть уже зажила, да еще не совсем.
– Он с палками пришел, – вмешалась Танюшка, вытягивая из-под кровати костыли. – Как пришел, так под кровать их спрятал, а сам сидит!
– Ранен? – тихо спросила мать.
– Немножко, – ответил я. – Да ты не думай ничего, мама, все прошло…
Мать провела рукой по моей бритой голове, и с минуту мы просидели молча. Потом она быстро встала, сдернула пальто и бросилась на кухню:
– Бог мой! Да ты, должно быть, голодный!.. Танюшка, беги скорей в сарай – тащи угли! Сейчас самовар поставлю. И куда это я спички сунула?.. Борис, у тебя есть спички?.. Не куришь? Так, ну и хорошо! Да вот они!.. Ты бы сапоги снял и лег. Дай я тебя разую…
Вскоре зашипел самовар. Запахло с кухни чем-то вкусным. Входила и выходила из комнаты раскрасневшаяся у плиты мать. Ровно тикали стенные часы да колотила метелица в узорчатые морозные окна.
Легкая дрёма охватила меня. Было тепло и мягко на старой кровати, укрытой знакомым стеганым одеялом. И вдруг показалось мне, что ничего не было – ни фронта, ни широких, донских степей, ни отряда, ни боев.
Будто бы все то же, что и раньше. Вот она, на стене моя полка с учебниками. Вот в углу выцветшая картина, изображающая вечер, закат, счастливых жнецов, возвращающихся с поля. Через открытую дверь виднеется кипящий самовар на клеенчатом столе – такой же неуклюжий, толстый, с конфоркой, похожей на старую шляпу, сбившуюся набок.
Я полузакрываю глаза… В углу возится Танюшка, тихо напевая древнюю баюкающую песенку – ту самую, которую я слышал от матери еще в глубоком детстве:
На горе, го-о-о-реПетухи поют.Под горой, горойОзерцо с водой.Как вода, водаВсколыхнулася,А мне, девице,Да взгрустнулося.И мне уже совсем начинает казаться, что ничего не было, что все по-старому, по-школьному, по-давнишнему.
– Борис! – кричит мне мать. – И соседей кликать?.. Боря, тебе чай к кровати дать? Или ты сюда придешь?
Я вздрагиваю, и опять я вижу черно-красную каемку возле отцовского портрета, свою шинель, папаху на вешалке и слышу, как пахнут смолой костыли у моего изголовья.
Нет, все было.
После обеда, когда мать ушла на дежурство в больницу, а я, вдоволь насмотревшись и наговорившись, лежал в кровати, раздумывая о том, куда мне завтра пойти и кого повидать, в дверь постучали. И в комнату неожиданно вошел мой школьный товарищ Яшка Цуккерштейн. Он вошел улыбаясь, и в то же время видно было, что он старается казаться серьезным и солидным.
Яшка был на год моложе меня, следовательно ему было сейчас пятнадцать. Мы были с ним одноклассниками и дружили когда-то давно, еще до революции, до тех пор, пока не был приговорен к смерти мой отец, и до тех пор, пока ко мне не была прилеплена кличка «дезертиров сын».
После всего этого я разошелся со всеми товарищами, кроме Тимки Штукина. С одними, как, например, с Кореневым или с Федькой, у меня была открытая вражда, с другими – в том числе и с Яшкой – вражды не было, но был взаимный холодок и отчужденность.
Но так как все это было очень давно и так как с тех пор изменилось многое, то я хотя и удивился, но и обрадовался Яшкиному приходу.
– Здравствуй, Гориков, – сказал он, называя меня по фамилии.
– Здравствуй, Цуккерштейн, – в тон ему ответил я. – Садись! А я устал с дороги и полежу немного.
– Что ты! Что ты! Конечно, лежи! – быстро проговорил он, поглядывая на мою ногу, под которую заботливая мать перед уходом положила подушку. – А мы узнали, что ты приехал, – продолжал он, усаживаясь на стул и держа в руках форменную фуражку с сорванной кокардой. – Вот ребята и говорят мне: «Пойди, Яшка, узнай: как он, откуда, надолго ли?.. Ну, вообще, говорят, пойди и узнай…» Вот я взял да и пошел.
– И хорошо сделал! – ответил я, не совсем понимая только, какие это именно ребята могли попросить Яшку узнать обо мне, потому что с отъездом Тимки Штукина на Украину никаких школьных товарищей у меня не осталось.
– Ты с фронта приехал? – спросил Яшка.
– С Южного, – ответил я, внимательно разглядывая прежнего товарища и удивляясь тому, как вырос и возмужал он за эти полтора года.
– Ты был ранен?
– Да, в бок и в ногу!
– Ты надолго приехал?
– У меня отпуск на три недели…
– А потом?
– А потом опять на фронт…
– На какой?
– Не знаю! На какой пошлют, фронтов много.
Разговор не завязывался никак. Он спрашивал. А я отвечал неохотно. И все-таки, несмотря на все это, несмотря на то, что нам обоим хотелось попросту поговорить, – какая-то неуловимая черта, начинавшаяся еще где-то далеко в прошлом, лежала между нами.
– Ребята просили! Если ты сможешь, то приходи завтра к нам. У нас завтра в семь часов вечер в клубе. Там много наших встретишь – они будут рады.
– Цуккер… – спросил я, – вот ты мне все говоришь: «Ребята послали, ребята просят» – какие это ребята? Ну, например, кто?..
– Как – кто! Васька Бражнин, Васька Суханов, Гришка, Федор… я, Пашка Коротыгин – ну, вообще всё наши одноклассники, комсомольцы…
– Как? – Я повернулся так быстро, что нога моя соскочила с подушки и больно и сладко заныла. – Как ты сказал? Комсомольцы! Разве Гришка комсомолец?.. Разве ты, Яшка, комсомолец?..
– А ей-богу же, Борька, комсомолец! – обиженно и искренне вскричал Яшка, впервые называя меня по имени и так же по-прежнему, по-мальчишески оттопыривая губы, за что его и прозвали в школе Яшка-теляшка. – Уж скоро полгода, как комсомолец… Да хочешь, я тебе билет покажу?
– Ой-ой-ой-ой! – захохотал я, вырывая и отбрасывая его фуражку, которую он без толку крутил в руках. – Ой, и чудак же ты, Яшка! Чего же это ты мне просто не сказал? А то сидит, как китайский посол, и тянет что-то… «меня послали… тебя просили…». Сел бы да и говорил просто!
– А черт тебя знал, Борька, как с тобой разговаривать! – откровенно сознался Яшка. – Твое, можно сказать, такое положение, да еще с фронта, да еще раненый! Мне ребята говорят: «Гориков приехал, сходи ты, Яшка». Я спрашиваю: «Почему я? Пускай Гришка идет или Васька». Васька говорит: «Мне что, я схожу. А только Яшке лучше, он и раньше у него бывал». Ну, я и пошел…
Все прошло. Исчез холодок. Разговор стал простым и теплым – таким, какой может быть только между двумя давно не видавшимися после ненужной и случайной ссоры товарищами.
Я мало рассказывал, больше спрашивал. Потом мы начали вспоминать:
– А помнишь?
– А помнишь?..
Много таких светлых и коротких «помнишь» накопилось у двух ребят за время дружбы, которая началась чуть ли не с шестилетнего возраста.
Он рассказывал мне о моих школьных товарищах и о врагах, о том, кто из них учится, кто уехал, кто вступил в комсомол. И я с огромным вниманием и радостью слушал о том, что Кольку приняли было, да вскоре исключили. А что Васька оказался хорошим парнем. И что другой Васька тоже в комсомоле… И что Петька подал заявление…
[Ко всему тому, что я был рад за них, как за ребят, которые пошли по хорошей дороге, примешивалось особое чувство – гордости и волнения за то, что я оказался прав и что моя дорога, которую многие когда-то не понимали и даже осуждали, оказалась настоящей дорогой, к которой пришли и они.]
И только один раз я нахмурился. Это когда я узнал, что Федька Башмаков тоже в комсомоле – и, мало того, один из первых вступивших в комсомол.
Это больно задело меня. До сих пор еще во мне жила глухая, крепкая вражда к Федору.
И хотя я не сказал ничего об этом Яшке, но он и сам почувствовал это и перевел разговор на другое.
Яшка долго еще просидел у меня, и когда он уходил, то у обоих у нас горели щеки, глаза блестели молодым, свежим задором. Мы условились встретиться завтра на вечере в клубе укома…[3]
Был последний вечер первой недели, которую я провел в Арзамасе.
Я, Васька Бражнин, Яшка и еще две наши девчонки сидели на диване в клубе укома. Яшка только что сдал Ваське ночное дежурство. Васька нацепил на пояс огромный «Смит и Вессон» и деловито осматривал принятое под расписку оружие: четыре винтовки разных систем и две гладкоствольные берданки.
Две девчонки – Маруся и Зойка – возвращались домой из госпитальных бараков, что за городом, завернули на минутку передохнуть да и застряли в клубе. А я зашел повидать Сережу Шарова, председателя укома. Но мне сказали, что он все еще на вокзале.
Ночью мимо Арзамаса должен был пройти на восток эшелон с муромским рабочим батальоном, и наши комсомольцы еще с обеда грузили в вагоны фураж, чтобы батальон мог, не задерживаясь, катить дальше на фронт. Поэтому-то в клубе сегодня было так спокойно и тихо.
Васька окончил щелкать затворами и потащил винтовки в деревянную стойку. Гнезд в стойке было восемнадцать, а винтовок – всего шесть, и чтобы они не ютились в одном уголку, он расставил их вдоль всей подставки – через два гнезда в третье.
– Васька! – сказала Зойка. – Ты бы хоть печь затопил. Смотри-ка, холодина какая…
– Затоплю, – ответил Васька и подошел к телефону. – Штаб охраны города! – попросил он, отворачиваясь, чтобы нам не было видно его лицо. – Это штаб? Дай дежурного по гарнизону… Дежурный по гарнизону?.. Говорит дежурный по комсомолу Василий Бражнин. Дежурство принял. Налицо шесть винтовок и сто два патрона… С 10 вечера до 8 утра… Ночуют в комсомоле четверо…
Он отрапортовал это, потом спросил уже совсем обиженным голосом:
– Это ты сегодня дежуришь? Слушай, я ведь тебя еще в прошлый раз просил… Ну неужели у вас к итальянской [винтовке] не найдется хоть десяток патронов?.. Ну да, для винтовки Гра. Поищи, пожалуйста, а то у нас на нее всего одна обойма…
Он повесил трубку и подошел к большому синему плану города, висевшему на стене, взял листок с адресами и стал что-то рассматривать.
– Васька! Затопи печку, – повторила Зойка, укутываясь покрепче в пальто и подбирая ноги на диван.
– Затоплю, – ответил он, тыкая пальцем в расчерченный на квадраты план и бормоча вслух: – Первое отделение… Анохин, есть… Второе – угол Ореховской и Ильинской – Колька, есть… Слушай, – спросил он Яшку, – почему у нас по боевому расписанию выходит, что… Голубев, который живет на Новоплотинной, должен бежать черт-те куда – на Попов переулок к Шанину и к Ильину? А Конопляников, который живет… на Поповом, на Большую к Ведеркину и Самойлову – то есть под самый бок к Голубеву? Тоже… расписание называется!
– Васька! Затопи печку, – повторила Зойка. – Как твое дежурство, так ты все с винтовками, да с планами, да с сигналами, а в комнате уже мерзнут…
– Затопи, Васька! – поддержала Зойку молча сидевшая Маруся. – Что ты там мудришь? Какая тревога? Восстание ожидаешь, что ли?..
– Дура! – серьезно, но не сердито ответил Васька и, обратившись ко мне, пояснил: – Восстание не восстание, а когда в прошлом месяце вызвали на охрану спиртового завода в Ломовку… то три часа прошло, пока половина собралась. Вот тебе комсомольская дружина… Сейчас затоплю, – сказал он, доставая из угла большой топор. – Дров только еще наколоть надо…
Он вышел во двор. И через минуту послышался сухой треск раскалываемых поленьев.
– Затопит – тепло будет! – сказала Зойка. – Я и так намерзлась сегодня. Веселое дело – выбрали нас с Муркой в санитарную комиссию. Пришли мы в госпитальные бараки. На складе грязь, одеяла – как половики, простыни тоже… «Что ж это, говорим, товарищи! Да ведь это мы можем и акт составить».
А там только рукой махнули: «Составляйте, говорят. Прислали нам все это добро из расформированного полевого лазарета. А прачек нет… тут [их] по крайней мере двадцать нужно… А у меня всего и по штату шестеро, а налицо четверо. Вы бы, вместо чем акты составлять, помогли как-нибудь…»
– А как поможешь? – Тут голос у Зойки стал унылым и жалобным. – А как поможешь? Вот… собрали мы с Муркой девчат одиннадцать человек… да сегодня шестой день и стираем! Надоело… ужас как. Она помолчала, подула на застывшие руки и добавила:
– Я бы уж лучше на фронт пошла… А ты как, Мурка?
– А что там делать? – подумав немного, спросила Маруся.
– Как – что? Воевать!
– Разве что воевать! – улыбнулась Маруся [и как-то хитро посмотрела на подругу].
Тут они обе хитро переглянулись и ни с того ни с сего рассмеялись.
Вошел Васька и бухнул возле печки большую вязанку расколотых сосновых поленьев.
Со станции позвонил Сережа Шаров и сказал, что погрузка окончена и ребята идут в город.
Вскоре запылал огонь, сразу стало теплее и светлее. Мы подвинули диван к печке.
– Расскажи, Борис, что-нибудь про фронт! – попросила Зойка. – Ну вот, например, идет ваш отряд – вдруг… Ну, и так далее…
– Как это, Зойка, и вдруг… и так далее? – удивился я.
– Обыкновенно как… Как всегда рассказывают. То-то и то-то… потом вдруг так-то! И так-то! Так-то и так-то. Вдруг еще как-нибудь.
Все рассмеялись.
– Дуреха! – снисходительно вставил подсевший к нам Васька. – Ну, спросила бы про бой или про атаку, ну там про фронтальную или про фланговую… – (Васька спокойно и солидно произнес эти два слова.) – А то «вдруг да вдруг…» На военном кружке – так их нет! И потом и спросить-то у человека толком не умеют. «Вдруг да вдруг».
И Васька посмотрел на меня, как бы говоря: «А что с них спрашивать?.. Разве же они понимают!»
Однако, по правде сказать, если бы я стал рассказывать, то мне много легче было бы рассказывать по Зойкиной схеме: вдруг – так, а вдруг – этак, чем описать картину «фронтальной или фланговой» атаки. Потому что я и сам не знал, когда у нас была фронтальная, когда фланговая, когда еще какая. И, во всяком случае, если они и были, то уж никак не похожи на те, о которых вычитал Васька в старых уставах… Однако я хитро подмигнул ему – что, конечно, мол, мы-то понимаем, – но рассказывать отказался, сославшись на то, что надоело и расскажу когда-нибудь потом.