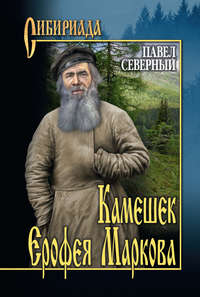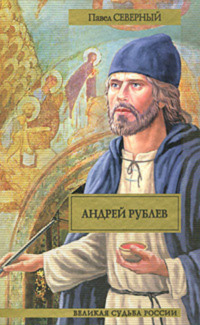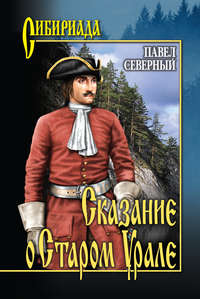Полная версия
Ледяной смех
– На их плечах тоже погоны.
– А что у них в черепах? Проклятое христолюбивое воинство! Что, если они переодетые большевики и при том вооруженные? Зачем вы привели их сюда? Им бы нашлось место и под большевиками. Чертовы защитники! На перегонки удирали от красных, а ведь всем были обеспечены для защиты Урала. Слышали наверняка, что от вашей победоносной Седьмой уральской дивизии остались одни рожки да ножки. Командир ее Голицын удрал, пристроившись к чешскому эшелону. Знаете, попав сюда, я просто не могу без дрожи видеть солдатские и офицерские рожи. Ваши попутчики мне просто не внушают доверия. Уверен – в погонах, а в душе готовенькие большевики.
– Они, как и вы, не хотят быть у красных.
– Оставьте, Вадим Сергеевич. Пошли с вами, потому и поняли, что могут поживиться возле беззащитных беженцев. Будьте осторожны с ними. Мой совет: покажите их коменданту, хотя он тоже недалеко от них ушел, потому первостепенный мужлан и хам. И, конечно, отберите у них винтовки, ну зачем раненым огнестрельное оружие? Почему так неласково на меня смотрите?
– Смотрю, что ошибался, считая вас порядочным человеком. По виду вы на него похожи, но по человеческой сути…
– Что хотите сказать?
– Что вы негодяй…
Резко повернувшись, Муравьев, отойдя от прокурора, подошел к солдатам и громко сказал:
– Пойдемте, братцы, искать полевой лазарет, чтобы раны привели в должный порядок…
Поздним вечером Муравьев, устроив солдат на ночлег, пришел на станцию в надежде на случайную встречу с кем-либо из екатеринбургских знакомых.
Побродив по перрону, решил пойти к реке, но столкнулся со штабс-капитаном Голубкиным, сослуживцем по дивизии. Оба от удивления развели руками и обнялись.
– Григорий!
– Вадим! Живой, слава богу!
– Считал меня покойником?
– Капитан Зверев сообщил, что тебя под Пермью насмерть кокнуло.
– И Зверев здесь?
– Что ты. Он, милок, неплохо обосновался в штабе Ханжина. Ты когда здесь объявился?
– Сегодня утром своим ходом из уральской столицы с девятью солдатами.
– С какими солдатами?
– Собрал на улице раненых.
– Не врешь? С вооруженными?
– При винтовках, но с ограниченным количеством патронов. А у самого добрый наганчик.
– Поверить трудно. В наше время с девятью солдатами шагал по лесным дебрям.
– Чего мелешь, Григорий? Вижу, вы тут от страха сами труса не прочь попраздновать. Неужели солдат стали бояться?
– У меня лично к ним нет ни малейшего доверия. Под Кунгуром один солдатик меня чуть штыком не пырнул, когда матюгнул его за неотдание чести.
– Тебе отданная солдатская честь крайне необходима?
– Это дисциплина. Ты же знаешь, Вадим, что я службист. Оттого и драпаем от красных, потеряв дисциплину. А от этого от генерала до солдата ни в ком нет веры в нашу идею о единой, неделимой России, подпираемую иноземными подручными. Все иноземное, только, слава богу, адмирал русский, да и то с турецкой кровью.
– Со сказанным согласен. Убежден, что русская душа вольготно дышит только под холщовой рубахой, вытканной из отечественного льна.
– Слава аллаху, мыслим одинаково, но во мнении о солдатах, задымленных кострами революции, расходимся. Не сомневаюсь, что и ты скорехонько избавишься от своей дворянской демократичности. Пойдем ко мне. Есть коньячок, и при этом настоящий, шустовский.
– Где прислонил головушку, Гришенька?
– В том служебном вагончике дорожного мастера. Места и для тебя хватит. Только предупреждаю, что не одинок.
– Женился?
– Неужели таким глупым кажусь? Просто временно пригрелся около купеческой жены. Муж ее где-то потерялся. Бабенка – пальчики оближешь. Здесь, милый Вадимушка, столько прелестных женщин, что просто на любой вкус. Мы и тебе подружку найдем. Если поплывем, то не меньше недели. Живем только раз, а теперь совсем укороченными темпами. Пойдем.
– Честное слово, приютишь?
– Что за вопрос? Говорю, места хватит.
– Обязательно приду, но прежде разреши взглянуть на Тавду. Целый день около нее промотался, а реку, нашу единственную надежду на спасение, в глаза не видал. Скажи откровенно, Григорий, веришь, что придут пароходы?
– И верю, а главное, надеюсь. Но только когда. Ведь ждут их люди уже пять дней. Одна надежда на Николу Угодника, что он раньше пароходов не допустит сюда красных. Беру с тебя, Вадим, слово, взглянешь на Тавду и в мой вагончик.
– Не сомневайся, приду. Думаешь, не хочется на купеческую женушку посмотреть. Давненько не видел вблизи лучистых женских глаз. А ведь в них столько прелести.
Расставшись с Голубкиным, придя на берег Тавды, Муравьев сел на край обрыва.
Перед ним в густом сурике закатных лучей на противоположном берегу стеной стояли лесные чащи, а от их отражений вода в реке казалась бездонной. В болотистых заводях крякали дикие утки. Где-то слаженно пел женский хор, а эхо разносило грустный напев песни. Под обрывом на песчаной кромке берега косматились огни костров, отражения их огненных вспышек змейками расползались по воде, прикрытые прозрачными вуалями дыма.
Вадим Муравьев уроженец Урала. Сын видного горного инженера. После окончания пермской классической гимназии стал студентом Горного института. Вскоре прапорщик выпуска 1915 года. Германский фронт. Орден Станислава с мечами. Анненский темляк на эфес шашки. На пороге Февральской революции – поручик. Гражданская война застала на Урале. Мобилизация в колчаковскую армию. Командир роты 25-го Екатеринбургского полка 7-й Уральской дивизии. Поэт, обративший на себя внимание критики. Таковы страницы его жизни за двадцать шесть лет от рождения.
Стемнело. Возвращаясь с берега, Муравьев услышал звуки рояля. Кто-то мастерски играл в пакгаузе вальсы Шопена. Вслушиваясь в мелодии, дошел до станции. Ее перрон пустынен. Дойдя до вагончика Голубкина, услышал в нем по-вульгарному заливчатый женский смех. Остановился и, не зайдя в вагончик, вернулся на станцию. Сел на скамейку под колоколом, таким ненужным сейчас. Со станции поезда больше не уходили, но и не приходили.
Из-под скамейки вылезла собака, обнюхала сапоги Муравьева, зевнув, легла у его ног, будто возле хозяина. Вадим, улыбнувшись, нагнулся, ласково погладил псину по голове…
Глава вторая
1Первый из ожидаемых пароходов появился на Тавде на рассвете.
Густой басок его гудка, прозвучав над рекой, укутанной в туман, подхваченный лесным эхом, прокатился вздохами над берегами.
Люди, не веря своим ушам, вскакивали со своих лежанок, хватая пожитки, бежали к реке, создавая на просторах просеки давку. Толпы, напиравшие сзади, просто сталкивали передних с обрыва. Неслись истошные крики, визги женщин, плач детей. Под лучами взошедшего солнца в клубах пыли с обрыва сползали люди, кувыркались чемоданы, корзины, узлы.
Красивый комфортабельный белый пароход с названием «Товарпар» стоял у берега в сизом мареве подсыхающего тумана.
Беженцы на берегу, разбирая перепутанные в спешке вещи, орали осипшими голосами, сгруживаясь перед пароходом у самой воды, а некоторые от напора сзади уже стояли в реке по колено в воде.
Возбужденная, потная от волнения толпа с раскрасневшимися лицами жадными взорами осматривала пароход. От толпы шел крепкий дух пота, духов, мыла и махорки.
Рыжеволосый толстый священник в чесучевой рясе, держа в руках наперстный крест, служил молебен, благодаря Господа за ниспослание людям спасения от рати грядущего красного антихриста.
Охраняя пароход от штурма будущими пассажирами, по берегу растянулись цепочкой солдаты с приказанием примкнутыми штыками на винтовках держать порядок при посадке.
Утомительно долго матросы на пароходе спорили, решая, как лучше спустить на берег два трапа. Но трапы наконец были спущены. Толпа с радостными криками, хлынув к ним, смяла солдат, а они, отступая в воду, осыпали садившихся на пароход цветастой матерной бранью.
Капитан парохода, коренастый сибиряк в белоснежном форменном кителе, надрывая голос, в медный рупор тщетно призывал пассажиров при посадке к порядку. Он даже угрожал прекратить доступ, но его угроз и выкриков никто не мог расслышать из-за гула людских голосов.
Сопровождаемый солдатами с примкнутыми штыками, в узком коридоре толпы появился генерал-майор Случевский, держа под руку миловидную молодую женщину.
В толпе люди, натыкавшиеся на солдатские штыки, выкрикивали в их адрес оскорбительные реплики:
– Глядите, генеральские мощи шествуют!
– Сиганул с фронту, а теперь наперед всех лезет.
– Бабенка с ним – артистка.
– Так и есть. Она оперная балерина.
– Недавно с другим путалась, а теперь при генеральской декорации вышагивает.
Генерал со спутницей уже давно были на пароходе, а в толпе все еще продолжали вспоминать, у кого балерина побывала в любовницах.
Энергично работая локтями, к трапу протискивалась в людском месиве полногрудая белолицая купчиха. Ее покатые плечи туго обтягивала пестрая кашемировая шаль. Сзади и спереди купчихи с узлами и корзинами шли две женщины в одеянии монахинь. Купчиха, расталкивая людей, со вздохами и ахами, облизывая языком высохшие губы, отвлекая от себя внимание, без устали выговаривала:
– Да что же это творится, Господи! Ужасти-то какие! Не приведи бог, что с народом деется. Гулящие девки без стыда наперед законных жен на пароход лезут.
Передняя приживалка, задыхаясь под тяжестью поклажи, сыпала скороговоркой:
– Матушка, Глафира Герасимовна, нервы свои из-за них в пружинку не скручивай. В людях ноне мало порядочности. Гулящих бабенок здеся табун собрался. Чтобы осередь нас втереться, они морды вуальками прикрыли. Но я их разом узнаю, они всем от нас, порядочных, разнятся.
На пароходе у трапа стоял молодцеватый офицер в черкеске «Дикой дивизии» генерала Врангеля. Это князь Мекиладзе. На груди у него блестели позолоченные гозыри. Его осиная талия перетянута тонким ремешком, на котором висели кобура и кинжал, осыпанный самоцветами. У князя красивой линии орлиный нос и хищный взгляд глаз, а его стройная фигура была хорошо знакома жителям Екатеринбурга, ибо князь долгое время состоял адъютантом у полковника принца Риза-Кули-Мирзы, перса по происхождению, пребывавшего в рядах русской армии.
Лихо заломив папаху, Мекиладзе стоял, рисуясь своей стройностью, и, временами наводя среди пассажиров порядок, хлестал коричневым стеком мужские спины, но обладатели их отвечали на его похлестывания подобострастными улыбками…
Под обрывом, около помятого кустарника, были сложены чемоданы и корзины. Около них в бескозырке седобородый матрос Егорыч, прищурившись, наблюдал за толпой, лезшей на пароход.
За чемоданами стоял коренастый адмирал Владимир Петрович Кокшаров. Седой старик с суровым худым лицом, хорошо выбритым, с бородкой, как у египетских фараонов. Усталые глаза адмирала смотрели на происходящее вокруг из-под лакированного козырька офицерской фуражки, низко надвинутой на лоб над кустистыми бровями.
Настенька, в том же черном платье, держала под руку мичмана Сурикова, глаза которого были повязаны черной лентой.
К ним подошли пятеро солдат. Один из них Корешков, козырнув адмиралу, обратился к Настеньке:
– Доброе утречко, барышня!
Настенька, осмотрев Корешкова, улыбнулась. Одетый по форме, и на шинели, на груди, на банте георгиевских лент, блестел золотой солдатский Георгий.
– Здравствуйте, Прохор Лукич.
– Явился, стало быть, с товарищами пособить вашему семейству погрузиться.
Встав по форме перед адмиралом, Корешков, молодцевато отдав честь, обратился:
– Дозвольте, ваше дитство, оказать посильную помощь. Сами понимаете, что вокруг творится. Медлить по сему опасно. Людишки, того и гляди, до отказу набьют посудину, так что можете оказаться вовсе без места. Шалеет народ со страху. Видать, не слыхали, что возле трапу женщину с ребенком насмерть помяли.
Адмирал с удовольствием смотрел на подтянутого пожилого георгиевского кавалера и спросил:
– Сибиряк?
– Никак нет. Волжанин. Захлестнула смута меня и аж под самую Сибирь щепкой кинула. Революция. У нее законы, дозвольте сказать, вроде как беззаконные.
– Какого полка?
– Германскую воевал в Фанагорийском, а ноне в 27-м Камышловском. Пятеро нас тут от полка.
– А полк где?
– Не могу знать. Раскидало его после страшенных боев на Сылве.
– Это плохо, братец.
– Хуже быть не может. Бывший наш командир, генерал Случевский, тоже здеся.
– Может, с погрузкой все же подождать?
– Никак нет. Медлить нельзя. Суворов-генералиссимус частенько солдатам говаривал, что промедление смерти подобно.
– Тебе видней, братец.
– Благодарствую, ваше дитство.
Сурово оглядев пришедших с ним солдат, Корешков четко приказал:
– Разбирайте, братаны, чемоданы. Только с полной аккуратностью. С дочкой, ваше дитство, я по ночной оказке заимел честь знакомство свести.
Солдаты начали разбирать чемоданы, но матрос Егорыч остановил их:
– Этот не троньте. Сам понесу.
Корешков хмуро посмотрел на старого моряка.
– Тебе, матрос, не к лицу со своими таким манером разговаривать. С разрешения его дитства ребята за вещи берутся. Поседел, а понять не можешь, что мы народ бывалый, а вдобавок фронтовики. А окромя всего прочего жулики с нашими ликами не родятся. Крест видишь на груди? Им меня за честную солдатскую храбрость под Перемышлем наградили. Честность мою, к примеру сказать, может тебе барышня засвидетельствовать.
– Зря служивый обиделся на меня. Я не хотел. Пускай любые берут, а только этот сам понесу.
– Вот это понятная форма разговора. Чать все военной жизни хлебнули не по своей воле.
Корешков, хлопнув Егорыча по плечу, улыбнувшись, посмотрел на Настеньку и, почмокав губами, сказал:
– Дозвольте, барышня, одно дельное соображение высказать.
– Говорите.
Корешков, нагнувшись к уху Настеньки, заговорил шепотом:
– Колечко с камешком лучше сымите. Камешек, по моим понятиям, недешевый, а у народу в мозгах может худое пошевелить.
– Вы правы.
Настенька сняла с пальца кольцо, положила в кожаный саквоях, который держала в руках.
– Можно трогаться, ваше дитство. Вы сами с дочкой и господин мичман, промеж нас встаньте. Ты, Кузя, ставь корзину на земь. Порожняком пойдешь в нашем авангарде. К винтовке штык примкни. В нем для нас большая подмога, потому кому охота на его шильце натыкаться. Дозвольте трогаться, ваше дитство…
Пароход, приняв на себя предельное количество пассажиров, на закате отвалил, провожаемый оставшимися на берегу беженцами, глубоко осев, пошел по Тавде, оставляя за собой вспененную волнистую дорогу.
Мекиладзе, вовремя устроив Случевского в роскошной каюте, был благодарным генералом назначен комендантом парохода.
Он метался по палубам, устраивая высокопоставленных пассажиров. Лихо освобождал своей властью каюты, захваченные чиновниками и купцами. Некоторые толстосумы охотно откупались от власти коменданта, карманы кавказского князя наполнялись золотыми монетами и слитками, и все у него шло как по маслу…
Однако через час пути у Мекиладзе произошло столкновение с капитаном парохода, когда ротмистр устроил нескольких женщин, выжив из собственной каюты помощника капитана. Капитан оказал расторопному офицеру должное сопротивлени, и горячему горцу пришлось отказаться от своей затеи.
Река, отражая переливы закатных красок, медленно погружалась во мглу сумерек.
Монотонное шлепание колесных плиц по воде старательно повторяло услужливое эхо прибрежных лесов. Леса скатывались по берегам с косогоров к самой воде, стояли плотными стенами, охраняя покой ее водного пути.
Пассажиры, все без исключения утомленные до изнеможения погрузочной суетой, криками, борьбой за места, наконец разместились, заняв даже самые глухие пароходные закутки, успокоились. У всех с лиц исчезла озабоченность, а наступившая нервная реакция заставляла людей думать только о покое. Неожиданно соседи по местам стали внимательно присматриваться друг к другу. Знакомились, заводили разговоры о таком самом обычном, о чем совсем не думали все эти дни на берегу в ожидании решения своей судьбы. Охотно друг перед другом раскрывали корзины и погребки со съестными припасами. Кое-кто охотно делился подробностями, как лучше заваривать чай фирмы Высоцкого или фирмы Губкина и Кузнецова.
Каюты первого и второго классов заняли военная и чиновничья элита, промышленники и самые состоятельные купцы Екатеринбурга. Это были пассажиры, жившие на берегу в крестьянских избах и в пакгаузах, у которых чад костров не пудрил лица копотью и сажей.
Адмиралу Кокшарову каюты в этих классах не нашлось, но он довольно прилично устроился с дочерью и мичманом Суриковым в одном из углов рубки второго класса. Но когда об этом узнал капитан парохода, то освободил для престарелого адмирала свою каюту и после долгих разговоров убедил старика занять ее, вернее, просто распорядился, чтобы матросы перенесли адмиральские пожитки.
Вскоре после ужина молодые дамы, приведя себя в надлежащий, привычный порядок, сменив туалеты, кокетничали с офицерами…
В открытых пролетах на всякий случай стояли на постах вооруженные солдаты и посматривали не без опаски на прибрежные леса, уже сливавшиеся с вечерней темнотой.
Среди них был Прохор Корешков, хорошо зная устав солдата на посту, он на пароходе допускал некоторую вольность, вел беседу с матросом Егорычем, с которым уже успел в охотку попить чай.
Начался их разговор с германской войны. Разговор обо всем, что Корешкову пришлось пережить в окопном сидении, и, конечно, немало было сказано о вшах, особо ненавистных любому русскому солдату. Попутно вспоминали Корнилова и Керенского. Немало говорилось о Смольном и большевиках. Корешков и Егорыч в октябрьские дни в Петрограде не были, но оба – грамотные и внимательно читали газеты.
Егорыч о недавних днях эвакуации из Екатеринбурга говорил по-матросски сдержанно, но по тону его голоса можно было понять, что они глубоко возмутили его матросское сердце.
Корешков обо всем говорил напористо, не старался обходиться без крепких словечек, утверждая свое окончательное мнение. Видел, что стоявший с ним на посту рыжий солдат внимательно прислушивался к его разговору с Егорычем.
– Я тебе так скажу. Эти самые большевики чем народный замысел к рукам прибирают? Понятным словом! Они запросто разъясняют, что, дескать, народ – хозяин земли. А ведь для мужика всякое слово о земле – самое святое слово. Вот, к примеру, в крестьянском сословии в земле все. Он спит, а сны о земле видит. Потому с землей у него жизнь воедино слита, даже ползать по ней начинает. Да что говорить. Земля она земля и есть. О ней русский мужик боле всего тоскует, потому всю свою силу работой ей отдает, а ведь знает, что она чужая, барская, и к старости подходит с мыслишкой, что только смертью своей займет в ней вечное место длиной в три аршина.
Помолчав, Корешков спросил:
– Про Ленина слыхал?
– Кто же о нем не слышал.
– Так вот о нем так понимаю. Этот самый Ленин о земле для мужика наперед всего подумал. А почему? Потому что сумел вовремя доглядеть и понять думу мужика про землю.
В окопы к нам большевики наезжали, понимай, что такие же, как мы, солдаты. Сказывали нам про ленинские разумения о земле и крестьянской доле.
Слушал я их, понимал, что по-дельному говорят, но все одно с открытой душой поверить в их правду опасался. А по какой причине? Да по той же, что эсеры и меньшевики тоже про землю не позабывают, но у всех разговор о земле разный. Вот и зачинает мутить разум сомнение, кому поверить, то ли большевикам, то ли прочим партиям. А спрошу тебя, по какой причине заводятся у меня подобные сомнения? Да все оттого, что в разуме моем темнота и света в нем не больше, чем от огонька копеечной свечки.
– А ты, как послушаю, краснобай.
Сплюнув сквозь зубы, рыжий солдат заключил:
– Коли тебе нескучно от моего краснобайства, то слушай. Потому и ты – солдат под стать мне, разнимся только краской волос, коей матери наградили.
– Верно. Солдат. И шинельки у нас одинаковые. Только я с иным понятием. Я ни за царя, ни за помещиков Богу не молился. К Колчаку в армию встал, когда прознал, что красные вместе с господами и нам по загривкам втыкают. Ты про Ленина поминал?
– Поминал.
– Его своими глазами я видел и слышал. Он о земле много говорил.
– Запомнил?
– Врать не стану. Стоял от него далеконько, когда он с балкона царской полюбовницы речь к нам держал.
– А говоришь, слыхал. Ты, стало быть, со слов других вникал в его слова. Потому, может, не то тебе в уши вкладывали, перевирая его слова на свой лад. Слышал Ленина с чужого голоса, а этому полной веры отдавать нельзя.
– Колчак тоже землю обещает.
– Обещает, да только ее хозяева плохо его слушают.
– Я Колчаку верю. С хозяевами можно самому поговорить по душам, пока винтовка в руках.
– Ты никак сибиряк?
– Сибиряк. А что?
– А то, что у вас с землей и раньше легче нашего было.
– А чего знаешь про эту легость?
– От сибиряков в окопах слышал про нее кое-что. Жили-то без крепостного права?
– Но со своими мироедами. На них тоже горбы мозолями натирали. Революция обязана наградить сибирских крестьян. Вот я и стану на родной земле оружием ее от всех партиев защищать.
– Ты ее, браток, сперва от большевичков отвоюй, а уж опосля мечтай на нее ногами наступать. Тебе легче моего. К своей земле вон на каком пароходе плывешь. А мне до своей землишки на Волге-матушке далеконько вышагивать. Вот, к примеру, я шагал по ней, а красные за это пинков в задницу поддали, да так ловко, что я от Перми до Тавды без птичьих крылышек долетел.
– Скажу те, голуба, по своему сибирскому понятию, что заплутал ты в понятиях о земле.
– Коли я плутаю, так ты, сделай милость, по-братски выведи меня на правильную тропу своего понятия. Кто мы? Мужики. Это война нас в шинелки нарядила. А снимем их – и станем мужиками. А уж ежели у тебя в мозгах свечка за пятак горит, то тебе просто совестно не рассказать о своем понятии о земле.
– Да, по правде сказать, и сам не хуже тебя плутаю.
– А тогда помалкивай. В чужой разговор не встревай. Видал людей на Тавде?
– Не слепой.
– Видал, как страх их принаряжал в трусов? Про все забывали, лишь бы убежать от красных, да подальше.
Видал, как с нашим братом все господа по-ласковому норовили разговаривать, за ручку здоровкались и прощались? Потому мы им надобились, у нас в ручках винтовочки, что при любом случае можем их под свою защиту принять. А теперь что видишь?
Сибиряк более зло послал слюну через зубы, но промолчал на заданные вопросы.
– Онемел? Потому опять понимаешь, что у всех, кто на посудине, на тебя надежда. У пролетов мы с тобой стоим, а пассажиры всяких сословий чаи гоняют, стерлядку на пару винцом запивают, а нам в благодарность, что бережем их, чарочки не подносят.
– А ты отдай им винтовку и садись с имя за стол.
– Я винтовку до самой смерти не отдам. Да они и держать ее не умеют. Они за веру, царя и отечество своей кровью вшей не поили. Они шепотком эти слова промеж себя произносили, а я за Отечество с начала войны немцев убавлял со свету.
– Будет про то.
– Нет, не будет. Хочу плескать мысли в словах, хочу понять, почему Россия на двое раскололась у одного русского народа?
– На крестьянской стороне правда. Единой должна быть Россия.
– А красные о чем толкуют. Тоже про единую.
– Мне их понятие знать неинтересно. Мое дело – в Сибирь их не допустить. По мне пусть возля Сибири свою власть разводят. В Сибири большевикам с их властью делать нечего. И боле от меня никаких высказов не жди.
– Может, ты и тем недоволен, что я в твою Сибирь плыву?
– У тебя винтовка. Должен помогать сибирякам не допускать до нашей земли большевиков.
– А, к примеру, спрошу. Выйдет по-твоему. В Сибирь красных не допустим, так ты в благодарность за помощь со мной своей землей поделишься?
– Пошто делиться-то?
– Да за помощь мою винтовкой?
– Ну об этом начальство решит. Его забота – всех землей оделить. У нас земли много. Корчуй тайгу и владей.
– Неплохо рассудил. Только и я судить умею.
– Твое дело – Колчаку служить верой и правдой, а у него ума хватит, как за службу с тобой землей расплатиться.
– Тогда уж скажи, как с чехами он поступит? Они тоже помогают.
– С имя расчет не землей. Им хлеба и золота дадут, а этого добра у Колчака хватит.
– Велишь понимать, что выращенный тобой хлебушко тоже на расплату пойдет?
– Ежели его откупят у меня. Я до родных мест дойду и с меня хватит.
– С бабой спать ляжешь, а Корешков за тебя воюй.
– А тебя не звал. Надо было тебе красных на Волгу не пускать.
– Верно. Только они меня об этом не спросили. Когда с Урала в Сибирь пойдут, тебя тоже не спросят.