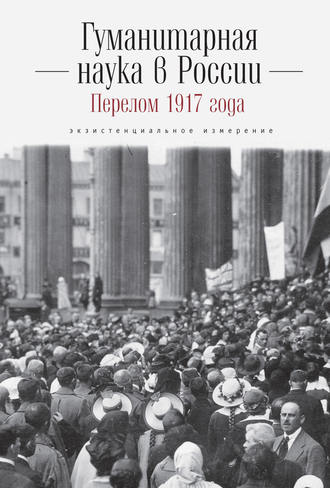
Полная версия
Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года. Экзистенциальное измерение
Конфликт В. Розанова и М. Пришвина в гимназии в Ельце проецируется как бы на сам город и на ощущение себя в нём каждой из сторон конфликта. Отсюда, наверное, и проистекает некая генеральная линия рассуждений о политике. Репрессивный елецкий текст прослеживается в оценках В. Розановым государства и политического порядка, равно, как и в самом факте возвращения «блудного сына» в то место, откуда ему пришлось уходить в поисках лучшей доли. Показательна дневниковая запись Пришвина от 13 октября 1919 года: «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым» [18]. По иронии судьбы, М. Пришвину приходится оказаться в статусе своего бывшего обидчика, к которому, кстати, к этому времени он уже не испытывал неприязни. Даже, наоборот, был в каком-то смысле благодарен за преподнесённый урок.
С точки зрения некоторых авторов, опыт отношений Розанова и Пришвина «интересен не только тем, что оба защищали свое человеческое достоинство, и каждый из них был честен в своих действиях и помыслах. Это был опыт переживания образовательного события как культурного» [7]. Видимо, сторонам конфликта приходилось не раз реконструировать сам елецкий конфликт и пытаться его по-новому моделировать.
Изменение взгляда М. Пришвина на елецкий гимназический конфликт в каком-то смысле созвучно с репликой В. Розанова, брошенной М. Пришвину во время встречи в Петербурге: «Голубчик Пришвин, простите меня, только это пошло Вам на пользу» [8]. В. Розанова довольно часто могли третировать произошедшим конфликтом (А. Ремизов, Н. Страхов, возможно, даже и 3. Гиппиус), да и постепенное взросление М. Пришвина, его появление в литературных и философских кругах столицы не могли не возвращать В. Розанова к елецкому тексту.
Возвращение в Елец М. Пришвина было показательным с точки зрения политической цикличности. Репрессивная государственная машина оказывается сильнее отдельно взятого характера, и со временем расправляется с человеческой гордостью и юношеским свободолюбием. Тем самым, подчёркивается некая всесильность политической власти, которая, по мнению Р. Барта, «гнездится в любом дискурсе, даже если он рождён в сфере безвластия» [2, 547]. Власть обладает онтологической природой – это понимает В. Розанов. Но, вместе с тем имеет место и диалектический двойник власти – сопротивление. И это прекрасно понимает М. Пришвин, всеми силами пытаясь ускользать к периферии политического пространства, где сигналы власти менее ощутимы.
Царь
Об уважительном отношении В. Розанова не только к государству, но и к фигуре царя свидетельствует хотя бы такое его высказывание: «Царь строил Россию, но и Россия строила царя. И как трудно поколебать Россию, так же трудно поколебать царя». Или: «Царь, что Солнышко: то сияет, то скроется. Так и день: то ясный, то хмурый» [14, 445].
Если для Розанова политический порядок, схватывающийся монархом и гарантирующийся им, кажется предписанным и неизменным, то для Пришвина здесь остаются определённые вопросы и недоумения. Царь – живой человек, поэтому он смертен. Вместе с остановкой жизни царя, вполне логично должно останавливаться сердце государства. Вспомним хотя бы фразу из «Кащеевой цепи»: «Царя убили, и опять стал царь, большой, с бородой».
Видимо, взгляды на фигуру царя двух интеллектуалов разнятся в силу диалектики «фундаментального» и «эпизодического». Царь для В. Розанова фундаментален, именно он центрирует политический порядок, пронизывая его своими предписаниями, имеющими силу высших законов. Что касается М. Пришвина, то царь для него – обычный смертный человек, обладающий телом, которому суждено постепенно утрачивать свою мощь и силу. Уход царя означает уход прежнего порядка, гарантом которого он являлся, а также наступление периода некоторой неопределенности.
Рассматриваемое нами несоответствие между представлениями В. Розанова и М. Пришвина можно усилить обращением к тексту Э. Канторовича «Два тела короля», где тело короля оказывается двоичным – вечным в юридическом смысле (монаршее правление, законы, предписания и т. д.), и смертным в физическом смысле [18]. Смертность тела царя вовсе не означает юридическую смерть – институт престолонаследия моментально компенсирует внезапный уход монарха из жизни вступлением на престол нового. Таким образом, для Розанова актуально юридическое тело, для Пришвина – тело физическое.
Пришвин оказывается материалистичнее своего оппонента. В его текстах больше отсылок именно к природе, к сути вещей. Как справедливо отмечает Т.Я. Гринфельд: «Пришвин-материалист более доверяет естеству, прекрасное для него не только “энергия”, но и “сознание” растительного и животного царства… В.В. Розанов в понимании прекрасного – “антропоцентрист”, у М.М. Пришвина же природа эстетически равна человеку» [9, 32].
Государство и царь, отсюда, конструируются интеллектуалами в зависимости от того, как они центрируют самих себя в пространстве. И если у Розанова можно встретить: «Царь собрал Русь. Устроил Русь. Как мне ему не повиноваться. Я пыль» [9, 520], то для Пришвина более предпочтителен натуралистический и в каком-то смысле даже анархистский взгляд на проблему власти и подчинения.
Для В. Розанова всё стекается к государству – его подвижный ум моментально политически оформляет практически любые рассуждения; у Пришвина, наоборот, рассуждения «убегают» от государства в сторону природы, в сторону натурального порядка вещей. Особенно актуально данное наблюдение для текстов последнего, созданных в уже зрелом возрасте: несмотря на свою относительную резкость и бескомпромиссность, М. Пришвин старается избегать оценки тех или иных политических событий и обсуждения конкретных политических персоналий.
Это различие мировоззренческих картин споривших между собой интеллектуалов во многом объясняет сам их конфликт и его истоки. Безусловно, противоречия между В. Розановым и М. Пришвиным не стоит понимать исключительно в контексте несовпадения восприятия ими политического. Можно предположить, что они вызваны и разницей в их темпераментах, в свою очередь, отразившихся на их творчестве, на манере письма. Относительно стройный текст М. Пришвина, обогащённый блистательными описаниями, противопоставляется «розановской клоч-коватости». Как отметил А. Синявский: «Розанов пишет не афоризмами, а клочками афоризмов, и сохраняет эту кл оч ко ватость мысли и стиля» [15, 181]. «Монументальность» писательской манеры противопоставляется «ртутной» всеядности журналиста – «идиотического унтера» на службе в печатном издании.
Правда, несмотря на различия в восприятии тех или иных феноменов (в частности, государства и царя), между философами могли существовать и сходства. Сходства, на наш взгляд, касаются определённых табуированных тем, которые в силу различных причин не всплывают в текстах интеллектуалов. Скажем, если В. Розанов не позволяет себе критиковать монарха, то в период советской государственности М. Пришвин также стороной обходит личности советских вождей. Подобная тактика интеллектуалов в своё время была довольно чётко определена И. Берлиным в эссе «Молчание в русской культуре». Действительно, разве пиетет, с которым Розанов относится к самодержавию и царю, в каком-то смысле не напоминает молчание Пришвина, практически не упоминавшего имя Сталина в своих текстах? Ни один, ни другой философ не смогли избежать участи быть молчащими. По справедливому замечанию А. Эткинда: «В советское время, лишённый возможности говорить о народе, Пришвин говорил уже только о природе» [17, 414].
В случае спора В. Розанова и М. Пришвина имеет значение культурный контекст, предопределяющий их поведение и выбор. Образ самого города, где было суждено им пересечься, его особый культурный ландшафт может стать довольно «говорящей» декорацией, определённым образом располагавшей их к «производству культуры». Действительно, «именно культурный контекст легитимирует бунт, артикулируя энергию бунтующего человека на тех или иных целях. Именно с помощью культурного контекста можно приблизиться к пониманию содержания самого человеческого отказа, к структуре произнесённого бунтующим человеком: “нет”» [23, 18].
Таким образом, первый опыт знакомства интеллектуалов, состоявшийся в Ельце, был не совсем позитивным. На первый взгляд, имеющий очевидные педагогические формы конфликт учителя и ученика в каком-то смысле мог наполняться и их мировоззренческими различиями. Общественный резонанс, который получил этот конфликт, в любом случае, не мог быть капитализирован ни В. Розановым, ни М. Пришвиным. Но, с другой стороны, полученный ими опыт мог стать определённым шансом на иску пление для двух этих творческих натур, всеми силами стремящихся доказать, как себе, так и другим, свою правоту.
Литература
1. Алексей Ремизов. Исследования и материалы / под ред. А.М. Грачёва. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 286 с
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс. Универс, 1989. 615 с.
3. Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. / Ред кол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др. М.: Художественная литература, 1990. 687 с.
4. Боровски А. Религия, интеллигенция и власть (религиозные институты в пейзаже польских городов). / Интеллигенция в этноконфессиональном мире: пути выбора. М.: РГГУ, 2011. 600 с.
5. Бунин И. Жизнь Арсеньева. Повести и рассказы. М.: Правда, 1989. 608 с.
6. Варламов А. Пришвин, или Гений места // Октябрь. 2002. № 1. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/october/2002/1/var.html]
7. Воля Е. Культура как воспроизводство достоинства. Гимназическое достоинство, из мыслей об образовательной биографии. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://gefter.ru/archive/12985]
8. Горлов В. П. Розанов и Пришвин [Электронный ресурс. Режим доступа: http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/about/gorlov-rozanov-i-prishvin.htm]
9. Гринфельд Т.Я. В.В. Розанов и М.М. Пришвин: понимание прекрасного в природе // Розановские чтения. Материалы к республиканской научной конференции. Елец: Типография отдела печати и полиграфии Администрации Липецкой области, 1993. С. 31–32.
10. Пришвин М. Кащеева цепь. М.: Советская Россия, 1983. 496 с.
11. Пришвин М.М. Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 8. Дневники 1905–1954. М.: Художественная литература, 1986. 759 с.
12. Розанов В.В. Полное собрание «опавших листьев». Кн. 2: Смертное / Под ред. В.Г. Сукача. М.: Русский путь, 2004. 191 с.
13. Розанов В.В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло… М.: Республика, 1997. 671 с.
14. Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2001. 478 с.
15. Синявский А. Опавшие листья Василия Васильевича Розанова. М.: Захаров, 1999. 317 с.
16. Скиперских А.В. Европейский и русский бунт: сходство и различие культурных контекстов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 1 (29). С. 15–21.
17. Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 644 с.
18. Kantorowicz E. H. The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957. 612 p.
Максимилиан Волошин: мистическое измерение истории
Евгений Кузьмин
В этом тексте вместе обсуждаются две темы, которые, как правило, невозможно соединить в рамках академических штудий. Однако они практически неразделимы у Волошина: это «политика» и история. Впрочем, как мы покажем, сам Волошин не считал свои рассуждения об актуальных проблемах и судьбах государств «политическими». Идея данной работы – соединить то, что соединяет сам Волошин. Он осознает окружающую действительность, включающую и текущие события, используя историческую информацию и предсказывая будущее. Спектр его идей и обсуждаемых им концепций чрезвычайно широк. Мы решили не останавливаться на каждой из них, что требует куда более обстоятельного исследования. В сущности, каждый из разделов нашего текста может быть значительно расширен. Для нас главное – дать ключи к пониманию истории у Волошина, отметить важнейшие проблемы, которые никогда раньше не поднимались.
1. Объяснение терминологии
За использованием терминов «мистицизм», «мистика», «мистическое» часто скрывают стремление избежать четких определений, сохранить недосказанность или создать атмосферу таинственности. Неоднозначность открывает неограниченные возможности для игры со смыслами, а это плохо для научной работы, где важна ясность. По этой причине следует начать с объяснений, что в в данном тексте подразумевается под «мистическим».
Начнем с краткого исторического экскурса, который не является оригинальным, он лишь повторяет то, что можно вычитать во многочисленных энциклопедиях, либо в базовых работах по данному вопросу. Ведь обстоятельные изыскания могут нас увести в сторону, тем более, что предмет нас интересует лишь для объяснения термина. Ссылки же даются на первые и на самые известные работы.
Термин греческого происхождения и он имеет любопытную пред-историю [19]. Слово происходит от глагола рюш, что значит «закрывать», «скрывать». От него было образовано рюсплкб^, которое, в числе прочего, значит и «посвященный». Отсюда же термин «мистерии» (pocrcfipiov). Таким образом, корень был связан с ритуальными тайнами, хотя не всегда с ними и не всегда именно с ними. Но, начиная с александрийской школы,[2] наблюдается очень явная тенденция связывать термин с религиозными воззрениями. Под «мистическим» начинает пониматься нечто труднодостижимое, глубочайшая истина, нечто важнейшее в литургии, глубочайшее понимание или экспериментальное познание божественных вещей.
Термины «мистицизм», «мистика» как существительные, обозначающие некие направления, течения мысли или совокупность неких учений, появились сравнительно недавно, во Франции XVII века («la mystique») [20; 22, 266–267]. Если верить Мишелю де Серто, тогда «мистические тексты» возникли как класс, как некая категория. В другие страны термин пришел, очевидно, несколько позже. Например, в то же время в Британии использовался термин «мистическая теология», а термин «мистицизм» вошел в употребление лишь к сер. XVIII века [24].
Так или иначе, в кон. XVIII – нач. XIX веков термин входит в широчайший обиход. О мистике спорят теологи, пишут историки. Однако на современную традицию изучения мистики оказали влияние преимущественно авторы рубежа XIX и XX веков, а их непосредственные предшественники редко обсуждаются в научной литературе. Среди авторов этого времени стали считаться классиками такие, как Альбрехт Ричль (1822–1889), Адольф фон Гарнак (1851–1930), Уильям Ральф Индж (1860–1954), Эвелин Андерхил (1875–1941), Артур Эдвард Уэйт (1857–1942) и ряд других мыслителей. И хотя изучение мистики со времени написания их книг шагнуло далеко вперед, данных авторов можно считать основателями современной традиции изучения проблемы.
Нетрудно заметить, что предмет «мистика» возник сравнительно недавно и проецировался на прошлое, в котором не было ничего, называемого «мистикой» тогда. Причем есть некий разрыв между временем появления термина в разных странах, а потом также между временем появления первых исследований и появлением влиятельных трудов по теме. Все это создало невероятный хаос в понимании предмета. Определения термина возникали вместе с теориями, сущность которых должно означать само слово. Можно сказать, его значение призвано обслуживать, описывать каждую отдельную теорию, обозначением которой он и призван быть. Выходит, слово меняет свое значение от книги к книге. Ведь каждый автор использует слово для обозначения интересующего его феномена.
Впрочем, обычно, хотя и не всегда, под «мистиками» подразумеваются те, кто пережил некий особый «мистической опыт», то есть испытал личные глубокие религиозные переживания. Под мистикой, мистицизмом, как правило, понимается опытное духовное знание, которое в западном своем проявлении ассоциируется с традицией, восходящей к Псевдо-Дионисию Ареопагиту (рубеж V и VI веков) и Августину Блаженному (354–430).
Мистика порой ассоциируется с оккультизмом. Но вряд ли их можно отождествить. Слово «оккультизм» происходит от латинского слова «тайный», «скрытый» («occultus»). В эпоху Ренессанса скрытыми или оккультными свойствами называли то, что не обнаруживается органами чувств. Это, например, влияние планет, свойства камней, воздействие магнита [18; 21; 23]. В 1533 Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма (1486–1535) опубликовал свою знаменитую книгу по магии «De Occulta Philosophia». Очевидно, она определила во многом судьбу термина, сделав его обозначением «тайноведенья», которое так или иначе связано с магической традицией.
Волошин увлекался внеконфессиональными религиозными феноменами, в первую очередь учениями Елены Петровны Блаватской (теософией) и Рудольфа Штейнера (антропософией), о чем речь еще пойдет далее. Но, как человек разносторонний, он проявлял любопытство к самым разным феноменам, которые часто и описывались в его время как «мистические» или «оккультные».
Для самого Волошина термины «мистика» и «оккультизм», как он сообщает в своих дневниках «История моей души»,[3] взаимозаменяемы, это синонимы: «А оккультизм и мистика – это только латинское и греческое имя одного и того же» [5, 7/1:288]. Но что же это за «одно и то же»? Что именно Волошин подразумевает под «мистикой» и «оккультизмом»? Наиболее внятное и полное объяснение можно найти в его статье «О теософии». Есть еще разрозненные свидетельства, в первую очередь в набросках к статье «Об оккультизме» [5, 6/2: 687–688], которые нет смысла обсуждать здесь, ввиду их согласия с указанной статьей, которая вполне ясно представляет «символ веры» автора. Итак в статье «О теософии»[4] и в ряде других текстов Волошин говорит о существовании некоего «тайного знания», «оккультизма». Оно отличается от научного мышления. Но два подхода к действительности не противостоят друг другу: «На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между тем, что в настоящее время называется наукой, и оккультизмом». Их пути когда-то разошлись, что нашло свое выражение в различных предметах исследований. Наука занимается внешним миром, а «тайное знание» внутренним миром человека.
2. Волошин и традиция тайного знания
Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) трудно заподозрить в четком, последовательном, фанатичном или слепом следовании какой-либо традиции. Его отношение к формальному систематическому образованию было резко отрицательным. Сам он скверно учился в гимназии и не имел университетского диплома. В его дневниках, озаглавленных «История моей души» записано, например, со слов Вячеслава Иванова: ««Не проповедуй и не учи» – это единственная <запо-ведь>». Там же Волошин делает и еще более резкое утверждение: «Всякое учение – воспитание – это онанизм» [5, 7/1:161].
Ввиду обилия оккультных, мистических положений в самой основе идей Волошина оказывается вопрос о зависимости его от существующих систем. Иными словами, насколько он творчески и свободно относился к оккультным, или мистическим утверждениям, был готов к свободному с ними обращению? Насколько Волошин зависим от каких-то воспринятых извне догматов?
Круг чтения поэта был чрезвычайно широк, но основные идеи пропускались через учения Елены Петровны Блаватской (1831–1891) и особенно Рудольфа Штейнера (1861–1925). Нужно сказать, Волошин лично общался со Штейнером и всю свою жизнь признавал его своим учителем. Вот собственные слова поэта [5, 7/2:259]: «Затем мне довелось… и наконец в 1905 г. встретиться с Рудольфом Штейнером, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя». Дмитрий Кленовский в статье «Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века» [9] написал: «А в отношении Максимилиана Волошина никаких сомнений на этот счет не существует – он был сознательным и последовательным антропософом». В статье К. Азадовского и В. Купченко «У истоков русского штейнерианства» представлена более сложная картина духовных поисков Волошина [1]. Но цель этой публикации, кажется, – ознакомление с архивными материалами, имеющими отношение к проблеме. У нас же цель иная. Здесь важно не выявить влияние, которое очевидно, а легитимировать независимость оккультных, мистических воззрений Волошина.
В самом деле, несомненно вполне свободное, творческое обращение Волошина с текстами. Так в письме Ю.Л. Оболенской (15 ноября 1917 года) он пишет: «Теософское поучение дает отвлеченный остов понятий, а его надо принять в душу как зерно, вырастить в себе, собой его одеть» [5,10:721]. Похожее утверждение делается в другом письме Ю.Л. Оболенской (21–25 октября 1913 году) и относительно антропософии, хотя и с оговоркой про неправильное догматичное понимание учения: «Протест больше против штейнеристов, в которых я видел людей, «изнасилованных истинами», чем против него <Штейнера> самого. Не принимал я тоже и догматизма его последователей. У него самого нет его» [5,10:47].[5] Как подмечает первая жена поэта и очень близкий к Р. Штейнеру человек Маргарита Сабашникова (1882–1973) в своих воспоминаниях, написанных по-немецки («Зеленая змея», «Die grime Schlange»), Волошин брал из антропософии лишь то, что было близко лично ему [14, 251]. Переводчик Евгения Герцык (1878–1944) пишет в своих воспоминаниях [7, 79]:
Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка – так всегда строила мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж – и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична – угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагават Гиты по-французски.
И в другом месте [7, 84]:
Маргарита оттесняла его: «Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь…» Он не сдавался: «Но как же, Амори, только из путаницы и выступает смысл».
Кажется, Волошин признает некое сходство подходов у себя с теософским и антропософским мировоззрением, которое само не тождественно какому-то строгому набору догм. Он настаивает на том, что мыслил в рамках этих учений еще до знакомства с ними. В «Истории моей души» есть такая запись, датированная 20 июля 1905 года: «Все теософские идеи, которые я узнаю теперь, были моими уже давно. Почти с детства, точно они были врождены» [5,7/1:228]. Также и в письме того же года, адресованном Маргарите Сабашниковой (24 октября 1905), он выносит сходную мысль из личных дневниковых записей в диалог с другим человеком [5, 11:633]: «Моя милая, милая Аморя <Маргарита Сабашникова>… Как странно согласно все то, что ты пишешь из слов St
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Под «экзистенциальным жестом» мы понимаем реализацию жизненной стратегии в контексте иерархически наиболее значимых для данного человека ценностей.
2
Под Александрийской школой принято подразумевать целый ряд направлений в философии, литературе, искусстве, богословии и науке, существовавших последовательно и параллельно в Александрии (Египет) с III в. до н. э. до VI в. н. э.
3
Заголовок, присвоенный Волошиным двум тетрадям, содержащим автобиографические материалы. Они издавались трижды. Первое издание имело очень много пропусков, можно сказать являлось публикацией отрывков – 3, 55-236. Во втором издании были пропущены записи бесед Волошина с В.И.Суриковым – 4. Полностью «История моей души» опубликована в собрании сочинений Волошина [5, 7/1: 143–362].
4
Следует отметить, что статья, написанная в 1907, не публиковалась при жизни поэта. Впервые напечатана в 1990 году в журнале «Наука и религия» [6]. В собрании сочинений – 5, 6/2:236–246.
5
Ср. 5, 10:83. Здесь утверждается, что антропософы обычно менее догматичны, чем теософы.









