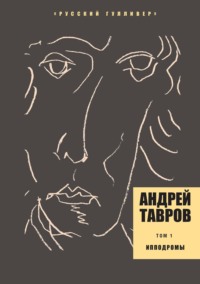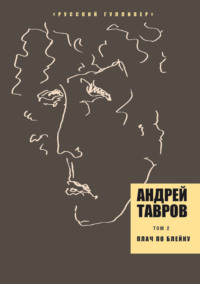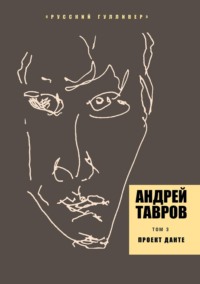Полная версия
Клуб Элвиса Пресли
Но вот автобус с нагретой крышей разворачивается, открывает со скрипом передние двери, и в него начинают влезать пожилые и морщинистые местные, девочки со жвачками и мобильниками в потных руках и курортники. Грузятся все они толкаясь и молча отпихивая друг друга, потому что мест в автобусе мало, а ехать больше часа. Воротников не толкался, но в конце салона оказалось свободным изрезанное шкодливым ножом кресло, куда он и сел.
Теперь, входя в трудный оборот повествования, чтобы выразится пояснее и поэнергичнее, заметим, что непонятно каким образом, но профессора, о котором идет речь, примостившегося сейчас у открытого стекла автобуса, что газует с подвывом на второй скорости, можно было, так сказать, ничтоже сумняшеся, воспринимать одновременно и как человека, и как, с другой стороны, дерево. Сейчас мы все поясним, почему такое произошло.
Пусть, например, дальше говорит его знакомая девушка, что ли ученица или просто почитательница его тихих даров, а она говорит так (забыл только, кому это она сказала, но сказала наверняка и даже покраснев от некоторой небольшой досады), что ничего тут нет странного, потому что он, профессор Воротников, невольно являет собой то сияние и то впечатление, которое ты сам по себе искал в своей жизни, но не нашел и даже не мог как следует сообразить, чего же, собственно, ты так безнадежно ищешь. Но однажды ведь желания исполняются, и ты встречаешь то, что встретить никак невозможно, кроме как только в самой мечте, и вот оно вдруг происходит. И не обязательно один профессор Воротников, но, наверное, и многие другие в какой-то момент могут расширяться своим телом и душой так, что из тела и души постепенно произрастают деревья, голуби и дороги, и то самое сияние, что так необходимо ищущему его всю жизнь человеку. И видно, как они возникают в незнакомце и увеличиваются вместе с облаками, а ночью – со звездами, похожими на большие оловянные репейники.
Данте говорит, что само бытие есть сравнение, а вернее, не Данте, а один поэт говорит про Данте. Но словами сравнивать всегда долго, и часто все получается искусственно, если ты не такой поэт, как Данте или тот, который про него написал, – а вот глазами и мыслями можно сразу увидеть, как сравнение происходит наяву, и даже продолжается в единство с самим человеком – профессором Воротниковым, например, но это необязательно. Я сама несколько раз слышала, как из куста на его плече пел дрозд. Не тот дрозд, который в морозный зимний день в Стрешневском парке среди заснеженных ветвей раздувается в сплошную пушистую подушку, склевывая ягоды рябины и не сводя при этом с тебя глаз, а другой – певчий, которого я слышала как-то весной в Симеизе. И я не удивилась, потому что для удивления нужно что-то необычное или внезапное, а тут все было так, как и должно происходить.
Поэтому – это уже говорит не влюбленная в профессора девочка, а я сам – если профессора и можно было иногда принять за белого голубя, то этому никто не удивлялся. Ведь не зря же иногда говоришь своей жене в минуту просветления – голубка ты моя, при этом догадываясь про то, сколько ты ей сделал ненужного и лишнего за все эти годы и не сделал основного и главного, например, не додал ей ласки и других необходимых вещей, ну и так далее. И при этом видишь не жену, а, действительно, нежную голубку. Или, может, наоборот – сначала видишь вместо жены голубку, а потом уже догадываешься. Или один человек говорит другому, что он бурундук, и долго сам в это верит, как никто. Ну и так далее.
Автобус тем временем пересек автостраду и, мучительно подвывая, стал взбираться по крутой дороге, миновав справа бензоколонку с бетонированной стенкой, покрытой вьющимися паразитами, а слева ржавый заброшенный мост, сквозь который проросли кусты и деревья. Мост висит над широким пересохшим руслом речки в белых на солнце булыжниках, а вода позванивает лишь в узких протоках посередине, но все равно в ней живут рыбы и по ночам пучат круглые глаза на луну. А днем тут полно черных бездомных собак, что валяются как попало на камнях набережной возле бетонной стенки, на которую мочатся все, кому не лень, но собаки все равно любят это место, хоть и неизвестно, за что.
Рядом с профессором села бабушка, загорелая абхазка в длинном синем платье с рисунком каких-то жалких рыбешек или ягод и с корзинкой на коленях. Он нее сильно пахло потом и селедкой, но потом пахло от нее, а селедкой от покупок, которые лежали в корзинке. Лицо ее было похоже на сильно мятую коричневую оберточную бумагу, а рисунок губ стерся почти что совсем. Белки ее глаз тоже стали светло-коричневыми от долгого срока жизни, а ресницы – редкими. И когда она вдыхала полной грудью, то все равно оставалась такой же мелкой, высохшей от тяжкой жизни старушонкой, как и тогда, когда она выдыхала весь воздух, который ей удавалось выдохнуть. Она знала, что скоро выдохнет его раз и навсегда, или, точнее говоря, насовсем, но часто забывала об этом, потому что привыкла к этой мысли и даже иногда ей радовалась.
14
Профессор вошел в дом, когда Николай рассказывал про пиявку, и, когда он закончил, Савва представил гостя из Москвы.
– Друзья, пропала дочь моего ближайшего друга, – сказал Воротников. – И Савва посоветовал мне обратиться к вам за помощью.
Эрик уставился на профессора и узнал в нем того субъекта с собачьей улыбкой, что совсем недавно кормил бобика на ступеньках продуктового магазина.
– Ее зовут Офелия, – сказал Савва из угла, – гы!
Эрик, услышав заветное имя, вздрогнул.
Савва помолчал, дергая кадыком и глотая. Потом наморщился, длинная судорога пробежала через его горло, но он, давясь воздухом, все же проглотил то, что ему мешало, задышал неожиданно часто и улыбнулся.
– Простите, я не нарочно сказал «гы!», – сказал Савва. – Это у меня бывает, когда подступает сильное напряжение. И если я не скажу «гы», то могу даже на какое-то время ослепнуть. Поэтому не обращайте, пожалуйста, на это слово внимание, даже если я еще несколько раз его скажу.
Лицо Саввы стало прекрасным и светлым, а на лбу его замерцал пот, словно ледышки под фонарем. Он кашлянул, втянул с шумом воздух через ноздри и добавил:
– Приехала сюда пожить и пропала. Вот ведь! А профессор хочет ее разыскать.
– Да, разыскать, – сказал профессор, – и мне нужна ваша помощь. – Тут он снова улыбнулся своей жалкой собачьей улыбкой, и Эрику показалось, что гость сейчас залает, но не басовито и раскатисто, как какой-нибудь породистый пес-доберман, вышедший на прогулку с хозяином в хороших джинсах, – а залает мелко, визгливо, забрешет так, что самому сделается неловко и страшно от вяканья, какое издает только щенок, что собакой еще не стал, а суматошно частит по улице так, что задние ноги его все время наступают на пятки передним.
– Офелия – хрупкая девушка, – сказал профессор.
– Хрупкая, – сказал Савва и засипел.
– Да, – сказал Воротников, – очень.
– Очень, – сказал Савва. – Совсем девочка.
– Да, – отозвался профессор.
Сейчас заплачет, – подумал Эрик, – сейчас. Но профессор не заплакал, а продолжил:
– Она очень любит музыку и книги. В этом все дело.
– Почему, – спросил Эрик. – Почему все дело в музыке и книгах?
Но профессор не успел ответить, потому что из коридора раздался грохот, словно упал таз, потом крик, и на порог вбежала бледная Марина.
– Лева повесился, – крикнула она профессору в лицо.
– Где повесился, где? – закричал Савва и выбежал в коридор.
В кладовке рядом с сорвавшимся со стены корытом на полу лежал Лева с обрывком бельевой веревки на шее, похожий то ли на овцу, то ли на крокодила, потому что рот у него был раскрыт так широко, как будто бы он собирался откусить невообразимо большой кусок бог весть от чего, но не смог, а с губ текла слюна и какая-то дрянь, вроде сукровицы.
– Лева, встань! – сказал Савва.
Но Лева продолжал лежать и склабиться, словно поломанная кукла, у которой лопнула пружина, и от этого она больше не хочет жить и посмеивается. Лицо у него было бледное и страшное, а глаза навыкате, можно сказать, что это было вовсе и не Левино лицо, а другого человека.
– Лева, вставай, – повторил Савва, – я же вижу, что ты живой, потому что у тебя щека дергается.
– Да не напирайте же, – обернулся тут Савва ко всем остальным членам Клуба, сгрудившимся у него за спиной. – Ты как, Лева, не повредился?
– Нет, – сглотнул Лева и лязгнул зубами, – я не повредился. Вот только локоть рассадил об это корыто. А я и не видел, Савва, что у тебя на груди голая тетка, – добавил он, и глаза его стали оживать, превращаясь из белых и плоских в серые и печальные.
– Это я с тоски наколол, – признался Савва. – Когда бой проиграл Рою Джонсу по очкам. Я бы его сделал, да судья подсуживал, засранец. Он хороший малый, потом ко мне в раздевалку заходил, руку жал. Только я не помню, то ли он заходил, то ли еще кто, но руку жал, это я хорошо помню.
– Морда у него белая была или черная? – спросил Лева.
– Вроде черная, – сказал Савва. – А я знаю? Я тогда расстроился, пошел в салон тату и сделал эту летучую мышь на грудь. Три часа сидел, пока он меня накалывал. Маленький какой-то, захудалый, как не свой. В Америке дело было, не помню, как улица называется, – океан там.
– Бабу, – сказал Лева и взвизгнул на вдохе. – Бабу ты сделал, а не мышь. У тебя, Савва, все мозги отбиты. Ты себе на грудь глянь.
– Да, наверное, бабу, – согласился Савва. – А у тебя, Лева, шишка на лбу. Только сейчас разглядел.
Савва подошел к Леве и стал поднимать его на ноги, но Лева никак не мог сделать так, чтобы его ноги выпрямились и уперлись в пол, а наоборот, все время их подворачивал и передергивал.
– Ты, Лева, вспомни, как мы на Красном Штурме утром купались, – посоветовал Савва. – Помнишь, на электричке приехали, спустились с насыпи, а там вода такая голубая и зеленая, просвечивает насквозь, и видно водоросли и камни. И еще на камнях крабы сидят и греются.
– Я все помню, – сказал Лева и заплакал. И от этого ноги его окрепли и стали его держать. – Ты там нырнул в голубую бездну, – сказал, дрожа, Лева. – Только ты ботинок забыл снять с одной ноги.
– Ты зачем вешался, Лева? – спросил Николай-музыкант. – Ты чего, совсем с ума сошел?
– Чтобы изменить свои мысли и чтобы снова быть, – сказал Лева твердым голосом. – Потому что если не отдать свою жизнь всю до конца, то так и будешь бледной тенью и не сможешь быть. Чтобы быть, нужно отдавать жизнь.
– Правильно, – сказал Савва, – я тоже так думаю. – Вот когда из отключки поднимаешься с ринга, так сразу крепнешь, и жизнь начинается заново. Я три боя выиграл после отключки, а никто не верил, что такое возможно. Потому что в отключке есть своя живая вода. Не знаю, где она там течет, но иногда вспоминаю форму русла – оно такое, как ручей – серебристое и звенит.
Савва взял Леву под руку, и тот, переступая ногами, вышел с ним во двор, под виноград и звезды. Там они сели на лавочку, и Савва погладил Леву по голове.
– Не делай так больше, ладно? – сказал Савва. – Обещаешь?
– Не… – сказал Лева, – не…
– Ну и ладно, – сказал Савва, – может, у тебя путь такой, особый. Слушай, Лева, может, ты хочешь чаю, я сейчас тебе принесу.
– Хочу, – сказал Лева. – Только я не чаю хочу, а знания.
– Чего же ты хотел узнать? – наклонился к нему Савва и добавил: – Дай-ка я веревку с тебя сниму, а то некрасиво как-то.
– Я хочу знать, зачем мы не отличаем себя от плохих мыслей, – сказал Лева. – И еще: когда шакалы кричат, почему они так похожи на пьяных девчонок, а? Может, с ними пьяные девчонки ходят, как ты думаешь?
– Может, и ходят, – сказал Савва. – Пропала наша девочка, слышал? Офелию похитили.
– Я знаю, кто ее похитил, – сказал Лева. – Знаю.
– Как бы ее не убили, – ответил Савва, – так что ты лучше скажи, кто это сделал.
– Сейчас, – сказал Лева, – сейчас. Вот только понимаешь, – он посмотрел на темное небо в хворосте звезд и дрожащих лучей, – понимаешь, Савва, меня мама неправильно родила, не по любви. Но ведь моя звезда все равно входит во все остальные.
Меня вот Марина все спрашивает – давай гороскоп тебе сделаем, а зачем мне гороскоп, если все дело в воле и подозрении.
– Каком подозрении?
– Подозрении, что у тебя есть своя звезда и никто тебе не мешает быть бессмертным, а если и мешает, как тот настройщик, то все равно у меня есть сила и звезда.
– Что за настройщик?
– К маме ходил. Рояль настраивал. Тяжелый такой рояль. Бок блестит, а клавиши с боков пожелтели. Я на нем занимался.
– Поиграешь как-нибудь? – спросил Савва. – Шютца. Я Шютца люблю, Лева.
– Поиграю, – сказал Лева. – Только я Шютца не очень. Хочешь, я тебе Моцарта поиграю?
– Не, – сказал Савва, – мне бы Шютца. Я его один раз слышал и сильно запал. Я так чувствую, что навсегда.
– Ладно, – сказал Лева, – ты меня уговорил, Савва, только ноты надо найти.
Тут цикады запели с такой силой, что казалось, будто во всех кустах и деревьях закрутились серебряные колесики, и лишь иногда в их монотонный звон вклинивалась какая-то ерунда и произносила ужасным голосом: Уху! Уху! – так, что холодело в животе и возникали разные мысли. Но потом она замолкала, и цикады продолжали пение как ни в чем не бывало, хотя, может, это были и не цикады, а какие-нибудь обыкновенные кузнечики.
15
А вот уже звезды сильнее зажглись, а вот уже и сместились. И та Медведица, что стояла над домом, теперь уже висит над далекими горами, словно бы еще ярче разгоревшись и посвежев. Как будто ее звезды теперь уже не из латуни, как раньше, а сделаны словно бы из хрусталя. Так вот иногда бывает, что выходит человек на улицу, и очки у него сразу запотевают от холодного воздуха, и от этого он сначала плохо видит – все у него словно бы в тумане; но вот стекло охлаждается, становится прозрачным, и тогда весь мир является ему в подлинности и холодке – отчетливый, ясный, с синими звездами, и в таком мире хочется жить и бежать все дальше по улице, подпрыгивая и притоптывая ногами.
Профессор стоял у окна и смотрел в темноту на Медведицу, когда в дверь постучали. Воротников пошел на стук и, щелкая замками наугад, открыл дверь, за которой стоял Эрик.
– Позвольте, – сказал Эрик. – Позвольте пройти. Мне надо с вами поговорить.
– Проходите, – сказал Воротников и провел гостя в комнату, где накануне было столько народу. Савва предложил профессору занять комнату в доме, и тот согласился.
– Присаживайтесь, – сказал Воротников, пододвинув Эрику стул.
– Вы думаете, что теперь уже слишком поздно, и я совершенно с вами согласен, – сказал Эрик. – Да, согласен. Но разговор, видите ли, не терпит…
– Да вы говорите, – сказал профессор, садясь на стул напротив Эрика и смотря на него своими жалкими и виноватыми глазами. – Говорите.
– Я, возможно, не то скажу, – начал Эрик, – вот у меня куклы. Как вы думаете, откуда они?
– Куклы?
– Разумеется. Японские куклы. Разумеется, из Японии. И вы думаете, что в нас нет пустоты, как в них, что это в куклах, запакованных в бандероль, то есть в посылку, может находиться своя собственная пустота, а у нас ее быть не может, пусть даже нас никто и не запаковывал в бандероль.
– Так-так, – сказал профессор. – Так-так…
– Вот и я говорю, – горячо зашептал Эрик, – и я говорю. Потому что – одиночество, оно ведь и есть пустота. И дело не в куклах, конечно, а в том, кто рядом. А если рядом – никого? Ну, совсем ни одной собаки, чтоб могла тебя понять, когда ты ей говоришь не для общего употребления, а единственное и задушевное. То есть простите меня за этот возвышенный слог, все это ерунда.
Эрик внимательно поглядел на профессора и быстро облизал губы.
– Я вижу, вы меня понимаете, – быстро проговорил он и слегка присвистнул. – Простите, это я невольно. Это у меня с университета невольная привычка. Я когда говорю с незнакомым человеком и волнуюсь, у меня с губ срывается свист, как у птицы. Я в детстве подражал некоторым птицам, вот у меня так и осталось, – пояснил Эрик. – Одно время совсем было прошло, но здесь снова начал свистеть, так уж сложилось.
Он сокрушенно помотал головой, словно выпил очень крепкой водки без закуски.
– Дело тут вот в чем. Я испытываю к вам доверие. Не знаю, почему, вероятно, потому что вы девочку пришли искать. Ее надо найти, ее обязательно, срочно, безотлагательно, теперь же надо найти, умоляю вас.
Тут он вцепился профессору в рукав рубашки и стал тянуть его на себя, пока рукав не затрещал и не разъехался.
– Извините, – сказал Эрик и снова свистнул. – Простите, я вам уже объяснил про свист, что он от птиц, вернее, от подражания птицам, поэтому мы больше про него не будем говорить. Простите за рубашку. Хорошая рубашка. Из Пакистана? У меня была такая же рубашка, и я ее очень любил. Я знаю про нее, знаю. Немножко только надо зашить и снова будет как новая. А Леве известно, где она, – сказал он. – То есть Офелия, да. Мы завтра же отправимся на поиски, завтра же. Хотя Лева мог и сочинить, сами понимаете, с собой не в ладу человек, но он не всегда же сочиняет. А иногда так и говорит неожиданную правду. Вот и сейчас я хочу сказать вам, профессор, одну неожиданную правду, и пусть вы меня сочтете за невежу, но я все равно вам ее открою.
– Вам не бывало так, – продолжил Эрик, глядя в угол комнаты, где стояли горные ботинки, – что весь мир словно бы налип на внешний слой вашей кожи, словно рыба-прилипала или ракушка рапаны какая-нибудь? Вы видели ракушку рапаны? Она буквально облеплена ороговевшими образованиями минералов, да. Чего там на ней только нет! А между тем, ежели ее интенсивно потереть о гальку, то через 20 минут она возьмет и засияет вам своим первозданным цветом, как новенькая. Поразительно, правда?
Профессор кивнул головой, не отрываясь глядя на Эрика. Губы его шевелились, как будто он тихо повторял Эрику одно и то же слово, но Эрик не слышал.
Он задумался и продолжил.
– Вот так и я. Я очень одинок.
Он оживился.
– Я словно часто-часто посылаю в мир свой глубокий сигнал, но меня не слышат. А я его посылаю, да! Я посылаю его, – взвизгнул Эрик. – Я посылаю его, даже когда я, например, вымажусь в чем-нибудь непотребном, в какой-нибудь пакости, даже когда я ем селедку или, например, очень устал или убит разочарованием, и тогда рву подушку зубами. Я все равно его посылаю.
– Сигнал?
– Я не могу его не посылать, – зашелся Эрик, присвистывая, – потому что я тогда забуду, кто я такой, а я не должен этого забывать, потому что иначе все будет кончено. Я здесь не просто так, – вскричал он высоким голосом. Я в этом поселке не потому, что я не мог бы жить в Москве или в Сан-Франциско, куда меня приглашали, не потому! Но нет! Я посылаю его и вплетаю в ткань мироздания и великого действа, magnum opus – свой единственный голос, на котором держатся миллионы, миллиарды других голосов, и ежели только его, этот голос, выдернуть вместе со мной из ткани – слышите, вместе со мной, таким как я сегодня есть, из ткани – и неважно, откуда и куда прислали куклы и про штрафы, и про поклепы, и про Марину тоже, и если вам скажут, не верьте! – если только выдернуть меня, то все построение из величайших мелодий, из небывалых слов, из несравненных вершин еще невнятной миру поэзии, ее восходов и закатов – все будет погублено!
Тут Эрик внезапно упал на пол лицом вниз, но не ударился, а засмеялся и стал отжиматься от пола, не сводя глаз с профессора.
– Я, кажется, понимаю, о чем вы, – тихо сказал Воротников. – Я сам часто об этом думал, но давно уже, в молодости.
– А сейчас вы уже не думаете? – спрашивал Эрик с натугой, продолжая отрывать тело от пола. – Не думаете?
– А сейчас стараюсь не думать.
– Ага! Я так и знал, я так и знал! – захохотал Эрик. – Что ж, значит я не ошибся, придя к вам. Значит, я пришел к нужному человеку.
Он вытянул руки вдоль тела и теперь лежал на полу, лицом вниз и глубоко дыша. Потом затих, и могло показаться, что в комнате его больше нет. Так иногда бьется на траве рыба, снятая с крючка, вздрагивает хвостом, обливается серебром чешуи, а потом тихо застывает, и даже жабры ее перестают двигаться. Только поют птицы, и продолжают скакать кузнечики.
16
– Я расшифровал послание убыхов, – глухо сказал Эрик в ворс ковра.
Профессор Воротников посмотрел на его затылок, потому что могло показаться, что Эрик разговаривает сейчас затылком, но не из-за того, что он обладал даром чревовещания, а потому что затылок его был самым убедительным местом во всем его теле, а лица не было видно совсем.
– Ту запись, о которой говорил Николай, помните? Со словами на птичьем языке. Так вот, я ее расшифровал. Да, я это сделал.
– И что же это за язык? – спросил Воротников.
– Язык этот убыхский, – глухо сказал Эрик в ковер, закашлялся и плюнул в сторону. Потом снова уткнул лицо в ковер.
– Вы знаете убыхский язык? – воскликнул профессор.
– Да, знаю, – веско произнес Эрик.
Теперь он сидел на ковре и пытался сдержать кашель, и от этого прекрасное, несмотря на пыль с ковра, лицо его было стало отсутствующим и слегка идиотическим, как это случается порой у очень красивых женщин.
– А я-то думал…
– Два самых ценных исследования о языке убыхов оставили Евлия Челеби в рукописи XVII века и немец Адольф Дирр, лингвист, – начал было Эрик, но тут его пробил сильный приступ кашля, от которого он согнулся, скорчившись вдвое и почти рыдая в голос. – Простите….
Однако, откашлявшись и раскрасневшись, он продолжил совершенно ровным тоном: Именно Дирр, отчаявшись в начале XX века найти остатки исчезнувшего убыхского фольклора, все же в конце концов записал одну их легенду. И, как ни странно, эта легенда оказалась – о языке.
– Очень интересно, – пробормотал Воротников.
– На Востоке, где встает солнце, – сказал Эрик, – было государство. Это уже легенда началась, – пояснил он, диковато блеснув белком одного глаза. – Государством правил могучий и умный шах. При нем был проницательный и умный писатель, интересовавшийся самыми неожиданными науками. Однажды шах отправил этого писателя изучать языки. Через много лет тот возвратился из странствий с мешком за плечами, одетый в дорогие шелковые и бархатные одежды. Он поклонился шаху и произнес: «Я изучил все языки – арабский, армянский, греческий, немецкий и все остальные».
И словно бы тень печали легла на его лицо.
«Прекрасно! – сказал шах. – А что у тебя на спине?»
«Это один из языков. Мне не удалось постичь его в совершенстве, потому что я еще не нашел к нему подхода».
Он снял со спины свой мешок и вытряхнул на персидский ковер его содержимое. Это были камни.
«Что это?» – спросил шах.
«Это убыхский язык», – ответил писатель.
Эрик помолчал. Потом продолжил:
– Остальными сведениями по убыхскому языку мы обязаны Дюмезилю и Фогту. В 1958 году они разыскали в Турции, на южном побережье Мраморного моря, в деревне Тепеджиккой и близлежащих селениях последние двадцать убыхов, все еще владевших своим языком, и записали их рассказы. Был составлен небольшой словарик убыхских слов, собранных ранее, и осуществлена фиксация произношения. Язык убыхов состоял в основном из односложных и двусложных слов с преобладанием губно-губных звуков: пти, птс, пц, пь, ф, ть – придававших звучанию схожесть с птичьим щебетом.
– Я вижу, вы в теме, – сказал Воротников. – Вы, вероятно, нашли этот словарик языка убыхов с транскрипцией.
– Нет, – сказал Эрик, – дело не в том.
Теперь он сидел на ковре неподвижно и был похож на вытесанную из одного куска камня мраморную бабу, которую профессор как-то видел в Асканийских степях.
– Я нашел не словарик, – тихо продолжил Эрик. – Я нашел мешок с камнями. Тот самый, что писатель принес шаху.
– Но ведь… – начал было Воротников.
– Не спрашивайте! Не спрашивайте меня ни о чем, – загорячился Эрик. – Просто поверьте, что убыхский язык – это действительно камни и птицы. Не в смысле, так сказать, образных украшений легенды, а в самом, так сказать, прямом смысле этого слова. Птицы и камни!
– Птицы и камни, – сказал Воротников, – птицы и камни. Я, впрочем, понимаю. Я кажется, впрочем, сейчас пойму до конца. Но ведь это… – он не закончил. – И что же вам удалось понять из послания с гор? – спросил Воротников, и Эрик увидел, что он готов улыбнуться своей жалкой улыбкой, и поэтому заторопился. От этой улыбки душа Эрика словно переворачивалась, и в ней начинали появляться забытые или полузабытые с детства чувства, и от этого по телу бежали мурашки, словно бы по щекам слезы. И он продолжил:
– Голос, записавшийся на магнитофонной пленке, говорит буквально вот что. Однажды жрец убыхов во время совершения жертвоприношения в священной роще услышал голос духа. Дух сказал жрецу, что в следующем месяце на гору А. под дерево Гамшхут придет сын бога Уашхвы – Цсбе. И что это будет Бог, спасающий языки, камни, людей зверей и все вселенные, какие они только есть. С их ангелами, рыбами и деревьями. И что каждый звук будет выправлен, а взгляд просветлен. И что боль и смерть уйдут из миров, если только племя поднимется к дереву Гамшхут и узнает своего Гостя. Но жрец не поверил посланию. – Кто мы такие? – решил он. – Что мы можем? Мы всего лишь охотники и пираты. Это голос демона, который хочет нас погубить, развеять наше племя и наш народ по свету. И жрец ничего не сказал своему народу. А через двести лет последний убых исчез с лица земли, ибо они побоялись выйти навстречу неизвестному и утратили то, что имели. И во второй раз, спустя 270 лет прозвучал голос – пусть другие люди придут под дерево Гамшхут встретить спасителя Цсбе, потому что если люди опять не придут, значит им не нужно спасение ни себя самих, ни рыб, ни деревьев, ни всех миров и вселенных. Вот мы передали вам это.