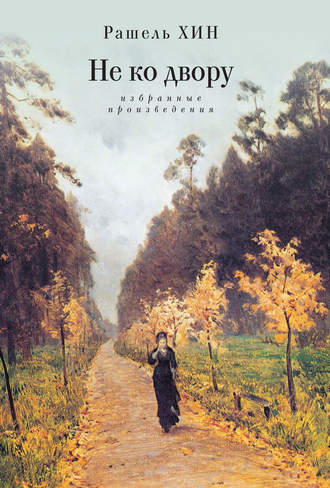
Полная версия
Не ко двору. Избранные произведения
Справедливости ради надо указать и на одно исключение из общего правила. В драме “Наследники” (СПб., 1911) представлен чрезвычайно привлекательный персонаж еврея-выкреста. Это престарелый мультимиллионер Роман Ильич Волькенберг. Существенно, однако, что сам он не только подчёркивает своё еврейство, но и окружающими воспринимается именно как “старый жид” – и по своей психологии и по образу мышления. Хотя обстоятельства крещения Волькенберга – “романического” свойства: он влюбился в дочь русского аристократа из Рюриковичей.
Иудейская вера рассматривалась писательницей как органическая часть еврейской идентичности, а крещение равносильно для нее отщепенству от своего народа. Правда, подобное предательство осознается далекой от иудаизма Хин не столько как религиозное, сколько как социально-правовое и политическое. Отступничество воспринимается как отказ от высокого мученичества дискриминируемого меньшинства, как продажа души за “чечевичную похлебку”. Симпатичны и притягательны у нее, как правило, те евреи, которые тверды в своих убеждениях и не желают быть ренегатами. И хотя в жизни писательница мирилась с таковыми, она настойчиво и целенаправленно развенчивала их в своем творчестве.
* * *Когда известный критик Аркадий Горнфельд прочитал в русском журнале “Вестник Европы” (1896, сент.) произведение Хин “Устроились”, он посчитал, что “не там этому рассказу место, что там его не поймут, т. е. поймут грубо, в общих чертах, но не в тех тонких частностях, которые мог бы оценить и понять только еврейский читатель”.
Что же специфически еврейского содержал в себе этот текст? Речь идёт здесь о бывших университетских однокашниках, русском и еврее, встретившихся через 12 лет после выпуска на Пироговском съезде врачей, причём первый принимает второго в своём роскошном московском особняке. Их судьбы сложились по-разному: хозяин особняка Игнатий Львович Дымкин стал “столичной знаменитостью”; второй же, Семён (Симха) Михайлович Воробейчик, живет и практикует в захолустном Загнанске, на речке Гнилушке. Но роднит их то, что оба несчастливы и обманулись в браке. Дымкин поведал товарищу, как стал деталью модного интерьера – “базара” жены, а всё потому, что ещё будучи молодым, “свою душу продал” ей за 50 тысяч. “А я свою даром отдал”, – вторит ему Воробейчик. Оказывается, нечаянно женившись на внушительном приданом, он не только такового не получил, но и вконец исковеркал свою жизнь. Писательница художественно точно рисует еврейские типы, проникая в самую суть характера. Каждый штрих, каждая черточка обретают яркость, значительность и типичность. “Вот— подлинные “плоть от плоти и кость от кости нашей”, – говорит Горнфельд о персонажах Хин. – Такая литература с её объективным художественным наблюдением выгодно отличается от прочей тенденциозной еврейской беллетристики, и пишет не манекенов, но “живого еврея”.
Ещё одно произведение Хин о “живом еврее” напечатано в журнале “Мир Божий” (1903, № l). Это рассказ “Феномен”. Некая Мадам Пинкус привозит из Кишинёва в Москву своего сына, малолетнего Яшу, обладающего феноменальными вокальными способностями (“Бог даёт еврейским детям ум и талант назло их врагам”, – говорит она). Учительница музыки, к которой она обратилась за помощью, разглядела в ребёнке “на тоненьких ножках, тщедушном, бледном, с длинной, как у аиста, шеей, с большой курчавой головой и огромными, недетскими черными глазами”, недюжинный талант. Пользуясь своими связями и знакомствами, она организует концерты мальчика-феномена, имеющих оглушительный успех. Но когда речь зашла о возможности для семьи Яши остаться в Москве, охотников помочь не нашлось. Хин мастерски рисует это воинствующее равнодушие столичного бомонда. Одна из его светских львиц, генеральша Стоцкая, отговаривается: “А что от евреев покою нет… Противный народ. Терпеть не могу вечно несчастных людей. Порядочный человек молчит о своих несчастьях, а евреи кричат на весь мир, что их обижают. Отвратительная манера”.
“Одеревенели сердца у людей; ни талантов, ни души, ничего не нужно”, – сетует учительница. И Мадам Пинкус повезла своего Яшу назад в Кишинев. Критик Григорий Адмони-Красный под впечатлением “Феномена” Хин писал: “Тема, затронутая ею, несомненно, интересна, но она до того полна различных моментов, что в небольшом рассказе очень трудно охватить их все. Г-же Хин под силу и большой роман; жизнь же, затронутая ею, настолько интересна, что доставила бы богатый материал именно для романа или обширной повести”.
Примечательно, что именно в год опубликования рассказа в журнале “Мир Божий” (1903), при полном попустительстве властей и духовенства, случится страшный Кишиневский погром. Причём рассказ был опубликован за три месяца до этого ужасного события. Вот что писала Рашель Хин в своём дневнике от 19 апреля 1903 года: “В Кишинёве произошёл чудовищный погром. В течение трёх суток – на Пасху – грабили и убивали евреев. По официальным сообщениям, людей выкидывали из верхних этажей на мостовую, насиловали женщин, “наносили удары, как по каменным стенам”. Полиция бездействовала… Газета “Бессарабец” каждый день разжигала ненависть и науськивала чернь на евреев. Во время погрома христиане, “интеллигенты” в праздничных нарядах расхаживали и разъезжали по городу и смотрели, как бьют жидов. Никто не заступился. Всем было всё равно. По газетам, убитых 45 человек, по частным (письмам) – больше трёхсот… Какой срам!”. Вот что ждало Яшу и его маму, точнее, их прототипов, на родине, в черте оседлости. Уцелели ли они в этой человеческой бойне?
Однако и положение иудеев, получивших право жительства в Москве, завидным не назовёшь. Ранее в “Недельной Хронике Восхода” (1887, № 2) Хин публиковала “Письма из Москвы”. Голос автора сливался здесь с мыслями и чувствами десятков тысяч её московских соплеменников и как будто звучал от их имени. Наблюдения не только объективны, они глубоко выстраданы.
Речь идёт о том, что русская интеллигенция “так чистосердечно, так искренно игнорирует существование евреев, что даже сами они как бы свыклись с мыслью, что так этому и быть надлежит”. Всякие попытки “слияния” тщетны. Действительность отрезвляет, и евреев равно чураются либералы, консерваторы, народники, квартальные, добровольцы. С горечью констатируется тот факт, что для московских иудеев “личная жизнь в своём узком смысле заслонила все общественные интересы”. Всё свелось к тому, как бы поприятнее пожить; и “сколько муки, сколько пыток причиняет этот упрощённый идеал, какую бездну лжи и притворства он породил!”. Отсюда – совершенное неумение жить; неуверенность в завтрашнем дне; бесцеремонность обращения богатых с бедными, образованных с простыми; подчас до наивности доходящее чванство; жалобы, вздохи, разлетающееся, подобно карточному домику; солидное положение; толки о выгодной партии; буржуазное самодовольство и холопская низость. И безусловно, права комментатор текста, израильский исследователь Нелли Портнова, отметившая, что “Россия за формально-законодательное принятие в свой мир требовала от евреев предательства – массового снижения нравственного уровня”.
Самый известный текст Хин – “Макарка” (Из жизни незаметных людей). Эскиз” (Восход, 1889, № 4), переизданный впоследствии пять раз (в том числе дважды в многотиражном издательстве “Посредник”). Подзаголовок красноречив. Современником писательницы, Григорием Мачтетом, в его рассказе “Жид” (1887) изучение простого человека было осознано как насущная художественная задача: “Мы вообще редко обращаем внимание в жизни на действительные подвиги простого незаметного человека, проходим мимо них спокойно, точно мимо самых обыкновенных, заурядных явлений, и к крайнему своему изумлению убеждаемся, что эти простые явления – настоящие подвиги только тогда, когда нам это подскажут, подчеркнут или обратят на них внимание живым рассказом”. Именно о таком незаметном человеке, мальчике-подростке, вопреки издевательствам и унижениям, ставшим для взрослых высоким нравственным примером, пишет Хин. Как отметил рецензент еврейского журнала “Будущность”(1903, № 5), писательница “со знанием дела, с искоркой” изобразила “душевный мир ребёнка, забитого дурными условиями домашней жизни… От [эскиза] веет чем-то тёплым, искренним, молодым, чувствуется, что автор рассказывает пережитое и передуманное”.
Противопоставление евреев-плебеев и евреев-аристократов занимало Хин. И духовным ориентиром стал для неё голландский философ, потомок марранов Уриэль Акоста (1585–1640). Представление о нём как об идеальном еврее, по-видимому, воспринято Хин от одноименной драмы Карла Гуцкова (1847), чрезвычайно популярной в России в переводе Петра Вейнберга (изд. 1872,1880,1895,1905) и ставшей также сюжетом ряда опер и картин. Широта взглядов, обаяние, культура, интеллектуальная энергия Акосты рассматривались писательницей как неотъемлемые черты передового еврейского интеллигента.
Впрочем, при всей взыскательности Рашели, она и в своём еврейском окружении находила достойных патента на благородство. Таковой была её гимназическая подруга, выпускница Высших женских курсов Екатерина Семёновна Динесман (Катя Киссина), о кончине которой в 1913 году Хин рассказывала в своём дневнике: “Я очень любила Катю за её необыкновенную кротость и милый, безобидный юмор. Она была типическая еврейка – по наружности, уму, душе – в самом привлекательном смысле. Все острые черты – в ней были облагорожены, смягчены и составляли что-то ей одной присущее. А главное – её доброта, изливавшаяся на всё “сущее”… Бедная моя Катя! Она не жаловалась на судьбу, всегда мило шутила, но в её редкопрекрасных, совершенно чёрных бархатных глазах всегда стояла печаль… смирения ли, обманутых мечтаний? Кто знает… Мир твоей незлобивой душе, моя милая Катя”. Круг идеальных евреев Хин на этом не закрыт. “В Кате было что-то общее с нашей бедной Анетой”, – замечает она, по-видимому, имея в виду свою родную сестру Анну Хин (по мужу Гринер). Сведения об Анне Хин крайне скудны, и ценно, что нам открывается духовная близость сестёр.
Отношение к евреям было для Хин лакмусовой бумажкой благородства и интеллигентности человека. Эталоном в этом отношении был высоко ценимый ею Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), которого она в шутку называла “цадиком”. “Очень интересно отношение Соловьёва к евреям и еврейству, – писала она в дневнике. – Древний Израиль для него священен. Это я ещё могу понять. Его возню с евреями тоже можно понять… Он их любит, – не жалеет, а именно любит. “Ваш порок – это евреи, наша великая раса”, – сказала я ему как-то, и он хохотал, хохотал и всё повторял: “Конечно, они великая раса”… Интересно то, что в последний день своей жизни он стал вслух говорить по-древнееврейски. Родные и Серг. Ник. Трубецкой думали, что он бредит. Стали его успокаивать, но он сказал: “Не мешайте мне, я должен помолиться за еврейский народ”.
И о замечательном учёном, профессоре-шекспироведе Николае Ильиче Стороженко (1836–1906) писательница говорила как о светлой личности, внесшей великий вклад в сокровищницу русской науки, и привела характерный пример: “Он умел поднимать свой голос одиноко, среди общего безмолвия. Н.И. доказывал, что недопущение евреев в университет только развращает студентов-христиан, и подал в ректорат специальное “мнение”.
Ректор заметил, что “мнение” последствий иметь не будет.
– Или будет иметь через сто лет. – добавил он.
– Тем хуже для нас! – парировал Стороженко”.
Критик Оскар Грузенберг говорил об отчаявшихся евреях-интеллигентах, выросших “под чисто русским влиянием”, которые в лихолетье погромов обратились к своим национальным корням, прияли венец еврейства. “Нужно было просветить все впечатления, подвести итог всему, что сближает с забытым народом, к которому, не сегодня – завтра, придётся обратиться с мольбою защитить и вдохновить”. В то же время для многих, и для Хин в том числе, антисемитизм и дискриминация евреев были вопросом общим, государственным.
Взгляд писательницы на действительность поражает своей масштабностью. Она настойчиво повторяла фразу своего друга Анатолия Кони, ставшую и её творческим кредо: “Я люблю слушать шаги времени”. И сама эпоха в её драматизме и противоречиях под пером Хин оживает, играет яркими красками. Вот что писала она о царствовании Александра III, которого “общая молва” украшала солидными добродетелями. “Прекрасный семьянин, прямодушный, добрый и застенчивый человек. От людей, вхожих в столь высокое место, приходилось слышать, что государь— добрый человек, но совершенно необразованный, тупой, чрезвычайно вспыльчивый, упрямый и… пьяница… Для поляков, сектантов и особенно для евреев эпоха царя-миротворца была жестокая, мрачная и при том поразительно нелепая. То же и для вольнолюбивых россиян. Погромы, “разгромы” сверху и снизу, отрывание детей у родителей-духоборов, разоренье, измывательство, армянская резня, религиозные гонения, натравливание инородцев друг на друга… Из фигур, его окружавших – самая крупная и самая зловещая, конечно, К.П.Победоносцев. Русский Торквемада”.
А вот запись в её дневнике от 23 августа 1914 года: “Барон Гинзбург был вчера у Горемыкина и просил его о расширении (об уничтожении нельзя, по-видимому, заикаться) черты оседлости. В ответ на это скромное ходатайство Горемыкин будто бы затопал на барона ногами. И правда! Завтра в Московском университете назначена жеребьёвка. Жаждущих – 800, а вакансий 80! Т. к. я… не считаю, что Русь “святая”, то всё это неприличие, против которого общество протестует лишь чуть-чуть, значительно охлаждает мой национализм”.
Примечательно, что даже на гребне военно-патриотического угара, когда даже близкие Рашели Мироновны, муж Онисим Гольдовский и сын Михаил Фельдштейн, были склонны оправдывать любые деяния власть имущих, её заботит положение её соплеменников. “А вот и сейчас, на что, кажется, “исторический момент”, – пишет она 7 августа 1914 года, – а евреям, спасшимся из Германии, разрешено только неделю пребывать вне черты оседлости. Или умирать за Святую Русь, за царя-батюшку, за торжество славянской идеи – это твой долг, а гетто, процентная норма на протяжении всего жизненного пути, “жеребьёвка” детей и юношей перед наглухо закрытыми дверями школ – это твоё право. Миша и даже Стась мне говорят: теперь не время об этом рассуждать. Я не юдофилка и не юдофобка, я понимаю, что теперь не время “рассуждать” ни об этом, да вообще ни о чём, но я не могу запретить своей голове об этом думать”. И ещё позднее – “Что у нас делается с евреями – теперь, во время войны! Травят, измываются и мучат хуже прежнего”.
Хин сближается с поборницей прав евреев в России, лидером партии политической свободы “Союз освобождения” Екатериной Дмитриевной Кусковой (1869–1958). Это по её инициативе Максимом Горьким, Фёдором Сологубом и Леонидом Андреевым было составлено воззвание, чтобы евреи получили в России хоть какие-нибудь права гражданства. Вот что Хин пишет в дневнике о встрече с Кусковой 5 марта 1915 года: “Просидели часа два. Мне хотелось от неё самой услышать, как Трубецкой и другие наши знаменитости отказывались подписать “воззвание”… “Бумага… написана в высшей мере скромно, даже вяло. Ничего о происходящих в настоящее время вопиющих, постыдных мерзостях, никаких точек над “i”, весь смысл, что так как евреи, мол, неоднократно доказали свою любовь к родине, то пора уже перестать глядеть на них как на чужеродный сброд”. И далее приводилось описание брезгливых отказов Александра Мануйлова, Фёдора Кокошкина, Павла Милюкова, Василия Маклакова, графини Варвары Бобринской и даже Анатолия Кони, сказавшего, что это, дескать, “несвоевременно”.
А ранее Хин присутствовала на заседании “Общества Единения Народов России”, где та же Кускова прочла беспристрастный, основанный на хорошем фактическом материале доклад о современных польско-еврейских отношениях. Хотя она старалась держаться объективного тона, но жестокость, иезуитизм и бездушие поляков – причём всех слоёв общества – к несчастным евреям, из простой статистики “случаев” предстали в такой яркой картине, что бывшим на заседании полякам стало очень не по себе. Слово взял председатель польского благотворительного общества в Москве Александр Ледницкий. “В Польше, – говорил он, – никогда антисемитизма не было, как не было там и погромов. Польская литература в творчестве своих корифеев никогда не была юдофобской. Поляки и евреи жили бок о бок 400 лет, и, Бог даст, проживут и ещё столько же – и за крепость брачного союза Казимира и Эстерки – нечего опасаться… А когда русское правительство уничтожит черту оседлости, то в Польше сам собой исчезнет антисемитизм”. Итог всему подвёл адвокат и политический деятель (при Временном правительстве он станет главным прокурором России) Павел Малянтович: “ Пора перестать смотреть на евреев, как на объект, на котором мы можем упражнять или своё зверство, или своё благородство и великолепие”. И, словно читая сокровенные мысли Хин, добавил: “Еврейского вопроса нет, есть вопрос русский”.
* * *К искусству театра Рашель Хин обратилась, будучи уже вполне зрелой писательницей, автором книги “Силуэты” (М., 1894) и множества повестей, рассказов, очерков, переводов в русской и русско-еврейской печати. Профессора Николай Стороженко и Алексей Веселовский, коротко с ней знакомые, пригласили её принять участие в литературном сборнике “Призыв. В пользу престарелых и лишённых способности к труду артистов и их семейств” (М., 1897), издаваемом литератором Дмитрием Гариным-Виндингом под патронажем Российского Театрального общества. Предполагалось сделать сборник “полным и разнообразным”, что в значительной мере удалось. Достаточно сказать, что мы находим здесь рассказы Александра Герцена и Антона Чехова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Ивана Леонтьева-Щеглова, Николая Потапенко и Владимира Немировича-Данченко, стихотворения К.Р., Константина Бальмонта, Татьяны Щепкиной-Куперник, Спиридона Дрожжина, Владимира Гиляровского и др.; переводы Алексея Веселовского и Ольги Чуминой, а также путевые заметки, мемуары, исторические зарисовки и т. д. Немало места уделено и театру, судьбам людей искусства. Воспоминания о Николае Рубинштейне и о выступлении Фёдора Достоевского на вечере в Георгиевской школе фельдшериц соседствуют с текстами “Из записной книжки драматурга” Петра Гнедича, поминальной заметкой об актёре Александринки Павле Сво-бодине; рассуждениями о “сценическом бессмертии”; описанием репетиции пьесы “Ребёнок” Петра Боборыкина, и т. д. Так что Хин оказалась в хорошей компании.
Но вот что примечательно: её пьеса для чтения “Охота смертная (Пословица)” – единственное драматическое произведение сборника. Американский литературовед Кэрол Бейлин поняла заглавие “Охота смертная” в буквальном смысле как “Желание умереть” (“Desire to Die”). Между тем, в нём сокрыта колоритная русская идиома, на что указывает и авторская характеристика текста – “Пословица”. В полном же виде русская пословица звучит, как “Охота смертная, да участь горькая”, и синонимична по смыслу таким фразеологизмам, как “Задор берёт, да мочи нет”, “Хочется, да не можется”. Однако поскольку героиня пьесы, сибаритствующая жена модного адвоката, рефлексирующая и безвольная Нина Павловна, сильного чувства начисто лишена, название приобретает подчёркнуто иронический характер. Она сетует, что у неё нет “даже невинного флирта” на стороне и вспоминает щеголеватого красавца Горского, оказывавшего ей особые знаки внимания. В возможность семейного счастья она не верит.
Подобное отношение к институту семьи коренится в русском нигилизме и ярко выражено в “Отцах и детях” (1862) Ивана Тургенева, а именно в репликах Евгения Базарова, называвшего брак “предрассудком” (“Ты придаешь ещё значение браку; я этого от тебя не ожидал”, – говорит он Аркадию Кирсанову). И хотя в романе Николая Чернышевского “Что делать?” (1867) представлен идеал образцовой семьи, основанной не только на взаимном уважении, но и на глубоком чувстве, достичь этой гармонии можно было только вне рамок традиционного буржуазного брака. А при всех плюсах такового, особенно в сравнении с патриархально-домостроевским семейным укладом (отделение деловой жизни от частной; освобождение женщин от обязательного труда; распределение ролей: мужчина-кормилец, жена – возлюбленная и мать; семья закрыта от посторонних и автономна)… буржуазный брак всегда был мишенью сокрушительной критики. С позиций классового подхода, женщины – угнетённый класс и призваны бороться за своё освобождение. И сегодня, наряду с подобным “социалистическим феминизмом”, на Западе влиятелен и радикальный феминизм, с его резким отрицанием института семьи как такового.
Критики отмечали, что в своих произведениях “Хин сосредотачивает внимание на выяснении… пошлости буржуазной среды… Симпатии Хин принадлежат решительно всем протестующим против этой пустоты и пошлости”.
Своеобразие драматургического воплощения Рашелью Хин современного женского характера предстанет рельефнее, если обратиться к её ранней прозе. Как мы видели, в повести “Силуэты” конфликт со средой доводится до кульминации, и героиня преодолевает житейские невзгоды с помощью творческой самореализации, что стало для неё смыслом жизни и спасением души. В другой ранней повести Хин героиня нашла забвение в воспитании детей…
В 1904 году Хин завершает работу над пьесой в 5-ти действиях и 2-х картинах “Поросль”, а отдельной книгой пьеса выходит в свет в самом начале 1905 года в типографии Ивана Холчева (1874–1909), прогрессивного издателя, редактора газеты “Вечерняя почта”, судебного психолога, автора книги “Мечтательная ложь” (1903). Драму взялся поставить Малый театр, и Рашель Хин 18 января 1905 писала в своём дневнике: “ Ни к чему у меня душа не лежит. Я как-то забыла, что репетируется моя пьеса [“Поросль” – Л.Б.]. Ни разу не была на репетициях”.
Премьера состоялась на сцене Малого театра 3 февраля 1905 с декорациями Феодосия Лавдовского и в постановке режиссера Александра Федотова. Всего прошло семь спектаклей, причём в них были заняты лучшие актёры театральной труппы Пров Садовский, Александр Остужев, Александр Ильинский, Елена Лешковская, Гликерия Федотова и др.
В основе драмы – романическая история преуспевающего адвоката, которого уводит из семьи настойчивая и предприимчивая молодая женщина, учительница музыки его дочери. Но, несомненно, наибольший интерес представляет психологическая линия сюжета и, прежде всего, колоритные типы современной русской молодёжи, представленные здесь во всей широте. Эта самая “поросль”, воплощённая в ярких сценических образах, показана Хин отнюдь не однозначно.
Мы видим и обуреваемую жаждой бесплодной деятельности добрейшей души “ветрогонку” и истого мизантропа, недоучившегося студента, считавшего работу на благо общества “рабством”; отгороженного от жизни поэта-декадента с его разглагольствованиями о “невесомых трепетаньях…. светозарных точках в бесконечном, воздушно-целомудренных точках в беспредельности”; и, напротив, твёрдо стоящую на земле “женщину новой эпохи” с её отчаянным феминизмом, приправленным неприкрытым гедонизмом и категорическим отрицанием института брака. Эгоистичная и тщеславная, она ищет развлечений, удовольствий, острых ощущений (“Надо пользоваться каждой минутой. Не оглядываться назад, не забегать вперёд. Что моё – то моё!”). Интересен её диалог с матерью – представительницей народнического поколения, где дочь, сравнивая себя с тургеневскими Еленами, Натальями, Марианнами, говорит о своём праве не следовать общепринятой морали.
– Но тургеневские девушки, – парирует мать, – уклонялись от шаблона во имя высокой идеи и вовсе не были “нравственными ничтожествами”, “искательницами ощущений”. Она клеймит современную молодёжь за то, что они никого не любят и любить не умеют. Всё-то у них внешнее, напускное; это дикари, одетые в модные костюмы и усвоившие культурные жесты. Впрочем, в пьесе выведен и весьма энергичный молодой студент, размышляющий о долге интеллигенции перед народом, о необходимости служить Отечеству.
Между прочим, этот студент-патриот очень точно характеризует представителей поколения отцов: “Чего тут нет! Кликушество, полицейская теософия, чиновный мистицизм – это с одной стороны. А с другой – кустарная риторика, позёрство, мелодраматическое озорство, сдобренное сивушной сентиментальностью, и безграмотство, возведённое в культ!” А самого адвоката, беспринципного и увёртливого, сторонника компромиссов в общественной жизни, автор припечатывает убийственной репликой: “Нынче компромисс, завтра компромисс… глядишь, и вышел подлец”.
Театроведы объявили драму “совсем не нужной… запоздало противопоставлявшей растерянную современную молодёжь старикам народнического поколения”. А историк Малого театра Николай Зограф заключил о пьесе: “Показанная в дни острейших политических событий, в феврале 1905 года, она с особой очевидностью продемонстрировала свою идейную слабость, устарелость суждений, отсутствие перспективы и подлинных и подлинных исторических конфликтов”. Однако драма ценна как раз тем, что в ней показаны характеры русской интеллигенции, которые не устарели и в тот судьбоносный исторический момент. А тенденциозным критикам хочется напомнить, что “Поросль” была написана Хин в середине 1904 года, когда революционная ситуации в стране ещё только зрела.

