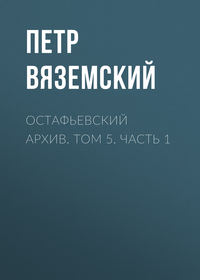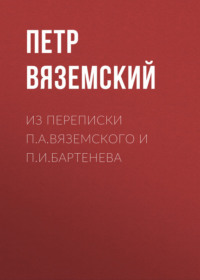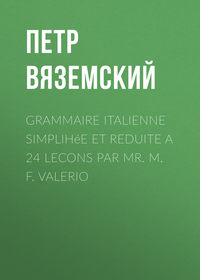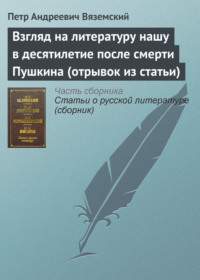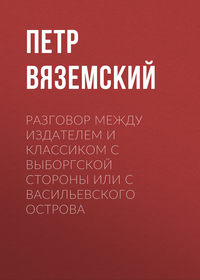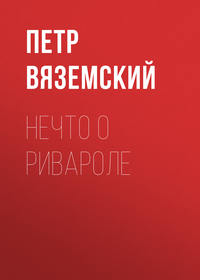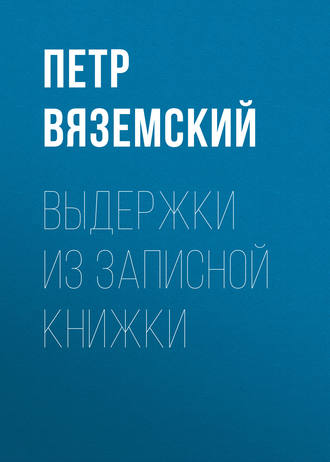 полная версия
полная версияВыдержки из записной книжки
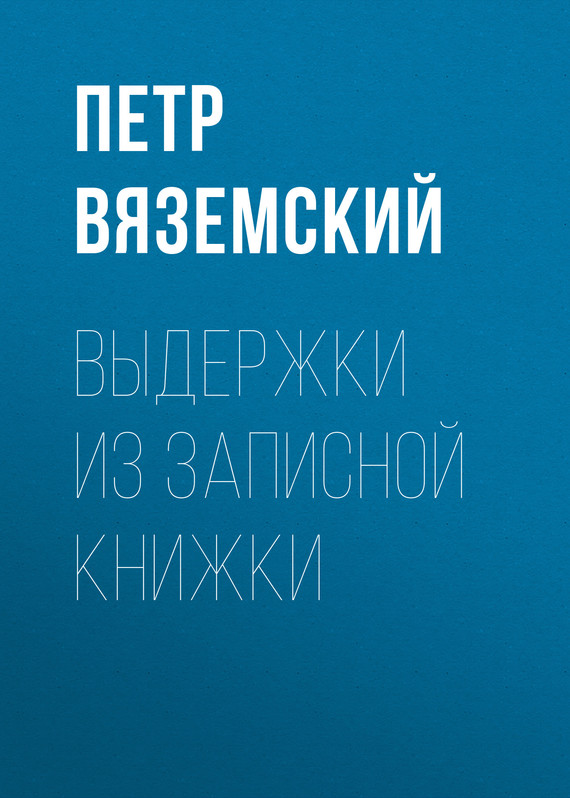
Петр Вяземский
Выдержки из записной книжки
Je jette mes idêes sur le papier et elles deviennent ce qu'elles peuvent.
Diderot.
В ночь на Иванов день исстари зажигались на высотах кругом Ревеля огни, бочки с смолою, огромные костры: все жители толпами пускались на ночное пилигримство, собирались, ходили вкруг огней и сие празднество в виду живописного Ревеля, в виду зерцала моря, отражающего прибрежное сияние, должно было иметь нечто поэтическое и торжественное. Ныне разве кое-где блещут сиротливые огни, зажигаемые малым числом верных поклонников старины. Это жаль. Везде падают народные обычаи, предания и поверья. Народы как будто стыдятся держаться привычек детства, достигнув совершеннолетия. Хорошо иным; но зачем отставать от поэзии бабушкиных сказок другим, все-таки еще чуждым прозы просвещения? Право, многим поребячиться еще не грешно. Мы с своею степенностию и нагою рассудительностию смешны, как дети, которые важничают в маскарадах, навьюченные париком с буклями, французским кафтаном и шпагою. Крайности смежны. Истинное, коренное просвещение возвращает умы к некоторым дедовским обычаям. Старость впадает в ребячество, говорит пословица: так и с народами; но только они заимствуют из своего ребячества то, что было в нем поэтического. Это не малодушие, a набожная благодарность. Старик с умиленным чувством, с нежным благоговением смотрит на дерево, на которое он лазил в младенчестве, на луг, на котором он резвился. В возрасте мужества, в возрасте какого-то благоразумного хладнокровия, он смотрел на них глазами сухими и в сердце безмолвном не отвечал на голос старины, который подавали ему её красноречивые свидетели. Старость ясная, лебединая песнь жизни, совершенной во благо, имеет много созвучия с юностью изящною: поэзия одна сливается с поэзиею другой, как вечерняя заря с молодым рассветом. Возраст зрелости есть душный, сухой полдень; благотворный, ибо в нем сосредоточивается зиждительное действие солнца, но менее богатый оттенками, более единообразный, вовсе не поэтический. Литературы, сии выражения веков и народов, подтверждают наблюдение. Литература, обошедши круг общих мыслей, занятий, истин, выданных нам счетом, кидается в источники первобытных вдохновений. Смотрите на литературу английскую, германскую: Шекспир, утро; Поп, полдень; Валтер-Скотт, вечер.
«Когда я начинал учиться английскому языку, „говорит Вольтер о Шекспире,“ я не понимал, как мог народ столь просвещенный уважать автора столь сумасбродного: но познакомившись короче с английским языком, я уверился, что Англичане правы, что невозможно целой нации ошибаться в чувстве своем и не знать, чему она радуется. (et a tort d'avoir du plaisir.)» Ум Вольтера был удивительно светел, когда не находили на него облака предубеждения или пристрастия. В словах, здесь приведенных, есть явное опровержение шуток и обвинений, устремленных тем же Вольтером на пьяного дикаря. Будь Шекспир пьяный дикарь, то дикарями должны быть и просвященные Англичане, которые поклоняются ему, как кумиру их народной славы. Дело в том, что должно глубоко вникнуть в нравы и в дух чуждого народа, совершенно покумиться с ним и отречься от всех своих народных поверий, мнений и узаконений, готовясь приступить к суждению о литературе чуждой. Шекспиристы, говоря о трагедиях Расина: «и Французы называют это трагедией?» a Расинисты о театре Шекспира: «и Англичане называют это трагедией?» похожи на французских солдат, которые, не окрещенные при рождении своем русским морозом и незваные гости на Руси, восклицали в 1812 году, страдая от голода и холода: «и несчастные называют это отечеством! (et les malheureux appellent cela une patrie!)»
Слава хороша, как средство, как деньги; потому что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто любит славу единственно для славы, также безумен, как скупец, который любит деньги для денег. бескорыстие славолюбивого и скупого – противоречия. Счастлив, кто жертвуя славе, думает не о себе, a хочет озарить ею могилу отца и колыбель сына.
Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, a пишущие люди не мыслят.
Сумароков единствен в своем самохвальстве: мало того, что он выставлял для сравнения свои и Ломоносова строфы, и – отдадим справедливость его праводушию – лучшие строфы Ломоносова; он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке; О путешествиях, вызывается он за 12. 000 руб. сверх его жалованья, объездить Европу и выдать свое путешествие, которое по мнению его заплатит казне с излишком, ибо считая, что продается его шесть тысяч экземпляров по три рубли каждый, составится 18,000 руб., продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, бы она и триста тысячь рублеъ на это безвозвратно употребила.»
Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и при всем безобразии своем некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные для любопытства. В общежитии был он, сказывают, также жив и заносчив, как и в литературной полемике: часто не мог он, на зло себе, удержаться от насмешки, и часто крутыми и резкими выходками наживал себе неприятелей.
Он имел тяжебное дело, которое поручил ходатайству какого-то г-на Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «с истинным почтением имею честь быть, не ваш покорный слуга, потому что я. Чертовым слугою быть не намерен, a просто слуга Божий, Александр Сумароков.»
Свидетель следующей сцены рассказал мне ее. В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н. П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек y хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы: каждый взносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложим и свое, которое по несчастию не попало на его мнение. С живостью встав с места; подходит он к нему и говорит: «прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас; a завтра для праздника пришлю вам воз сена, или куль муки.»
Мнение одного государственного человека, что в характере Наполеона отзывалось некоторое простодушие (bonhomie), было в свое время выдано за мнение несообразное и слишком простосердечное. Не поверяя оного характеристиками Наполеона, начертанными многими из приближенных его, которые посвятили нас в таинство его частной жизни и разоблачили пред нами героя истории, являя просто человека, – можно кажется по одному нравственному соображению признать в некоторых отношениях истину приведенного заключения. В поре могущества нечего было ему лукавить: одним лукавством не совершил бы он геркулесовских подвигов, ознаменовавших грозное его поприще: тут нужны были страсти, a страсти откровенны.
Суворов был остер не одною оконечностью штыка, но и пера: натиск эпиграммы его был также сокрушителен. Он писал однажды об одном Генерале: «он человек честный, воображаю, что он хорошо знает свое ремесло и потому надеюсь, что когда-нибудь да вспомнит, что есть конница в его армии.»
О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства не промокаемого (impermêable, water-proof.) Слезы ближних не пробивают их, a только скользят по ним.
От чего это мало помалу все крадутся в дверь из той комнаты? что за гостиная эмиграция? – «Верно N. N. начал там рассказывать анекдоты.» – Это напоминает мне одно острое слово покойника А…., которого, впрочем, весь разговор был фейерверк острых слов. Назвался к нему однажды обедать знакомый, теперь также покойник, но который при жизни слыл не даром неутомимым и утомительным повествователем. При большой медленности в производстве мыслей, отличался он еще и большою медленностью в произношении слов. «Я пришел просить y вас отпуска на 28 дней, сказал А…. начальнику своему в день назначенного обеда. – Что тебе вздумалось, отвечали ему: ты знаешь, теперь не время». – «Не управлюсь прежде,» отвечал А….: «y меня сегодня обедает такой-то».