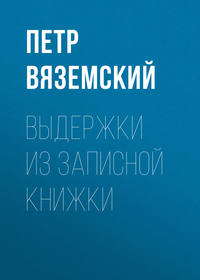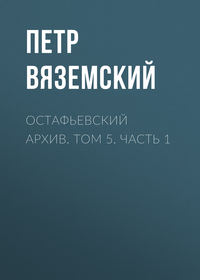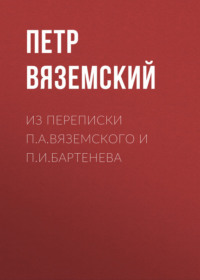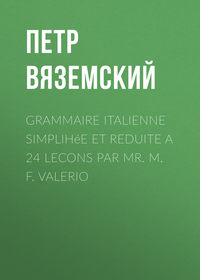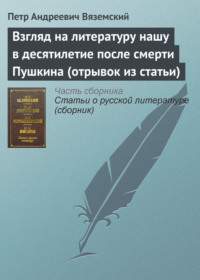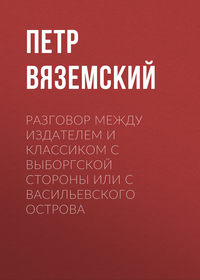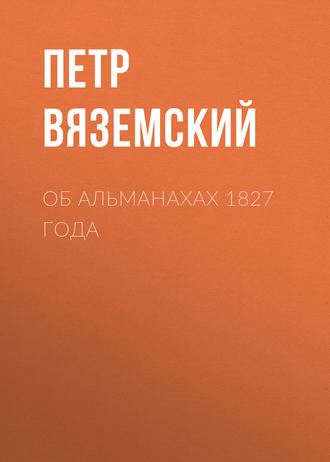 полная версия
полная версияОб альманахах 1827 года
Стихи хороши, очень хороши, насмешливы и остроумны; но должно помнить, что поэт шутит, хотя мимоходом и намекал на истину. Фонтенель говорил, что будь у него все истины в горсти, он не раскрыл бы руки. Не каждый умеет понимать истину: иной подумает, что поэт и в самон деле признает хандру отличительным свойством музы Виланда, Шиллера и Гете, что он не шутя обвиняет Жуковского в сближении Русской поэзии с Германскою.
Отрывок из поэмы: Наталья Долгорукая дает желание увидеть скорее в целом новое произведение песнопевца Чернеца и переводчика Абидосской Невесты. Можем порадовать любителей отечественной поэзии обещанием, что эта поэма выйдет в свет к зиме, и что автор её хочет, сверх того, заняться новым изданием перевода: Абидосской Невесты, в котором исправит он некоторые отступления от подлинника.
Талант барона Дельвига имеет отличительные свойства, не сливающиеся с господствующими признаками нашего времени. Поэзия его, как воды Аретузы, сохраняющие свежую сладость свою и при впадении в море, протекает между нами, не заимствуя ни красок, ни вкуса разлившагося потока. Первобытная простота, запах древности, что-то чистое, независимое, целое в соображениях и в исполнении, служат знамением и украшением лучших его произведений. Его Русские песни и стихотворения во вкусе древних, как, например, Друзья и Гений-хранитель, напечатанные в Северных Цветах нынешнего года, поражают какою-то прелестью древнею, но никогда не стареющею: так, отыскиваемые драгоценные памятники искусства веков первобытных занимают почетное место и посреди блестящих и гордых свидетельств нового просвещения. Если поэт и здесь подражатель, то, по крайней мере, он не ученический переписчик: перерождаясь в древних, он дает старине своеобразие новизны.
Рыбаки, идиллия г-на Гнедича, уже известная любителям поэзии нашей, перепечатана здесь с некоторыми переменами и прибавлениями, но не такими, о коих говорит рецензент Северной Пчелы. Напрасно указывает он на несколько новых стихов, в начале второй части идиллии: в этом месте находятся только легкия поправки, а значительное дополнение встречается в первой части, в описании слепца. Хорошо хвалить поэта, достойного уважения, по всем отношениям; но еще лучше наперед прочесть его, чтобы знать по крайней мере, что и как сказать о нем [4]. Эта Русская идиллия также есть попытка, заслуживающая внимание ценителей отечественной поэзии. Не входя в подробное исследование, скажем, что если есть место идиллиям и эклогам в понятиях наших современных, то быть им в окладках, присвоенных бароном Дельвигом и г-м Гнедичем, Пастушество Фонтенеля, Сумарокова и последователей их, также смешно, как парики, которыми были навьючены Греческие и Римские герои старого Французского театра. Исправления, сделанные поэтом во втором издании своей идиллии, служат все ей в пользу: только жаль, что он оставил еще несколько неисправностей и несообразностей; например:
В те тайные чувства минуты, когда вдохновеньеОт неба нисходит.В первом полустишии смысл совершенно сбит от неправильной разноски слов. У нас много свободы в сочетании существительных с прилагательными и других частей речи, но все же должны быть границы и этой свободе. А здесь выходит: не тайные минуты чувства, а тайные чувства минуты. В начале оба рыбака разного возраста:
Один престарелый, другой лишь брадой опушался.В продолжении рыбак младший напоминает старшему, как будто о младости, проведенной вместе, говоря:
Про реки знакомые, где мы учился ловле,Про долы зеленые, где мы играли младые,В словах младшего рыбака боярину на вопрос его:
Но в промысле ты не ленишься-ли, рыбарь, для песней?– нет ответа на сказанное.
Предлагая здесь наши придирки маловажные и, может быть, сомнительные, мы, по крайней мере, доказываем, что прочитали произведение поэта со вниманием, которое он заслуживает.
Читатели найдут в Северных Цветах, сверх всего упомянутого вами, стихи Веневитинова, которого смерть похитила у муз и отечества, в полном цвете прекраснейших надежд; стихи Плетнева, исполненные тихого чувства и примерного сладкозвучия, Ф. Глинки, князя Вяземского, Ф. Туманского, Илличевского, Ободовского, Ознобишина, Глебовых (Александра и Дмитрия), Ротчева, Востокова (продолжение полезного и внимания достойного перевода Сербских песней), В. Григорьева, И. Балле, П. Шкляревского, В. Шемиота, И. Великопольского, M. Яковлева и одного поэта безъяменного, но под № 1…8… Между сего множества имен, читатели заметят отсутствие Языкова и производство некоторых рядовых стихотворцев из линейных альманахов в список гвардейского легиона. Посмотрим, не выпишут-ли их со временен в Парпасский гарнизон за стихи, неприличные званию истинного поэта.
II
И все то блого, все добро!
Державин.Сколько альманахов на 1827-й год и ряд их еще не сомкнут: запоздалые явятся после. Сколько открывшихся поприщ для суетности поэтов и прозаистов, поживок для читателей, требующих разнообразной, но не обременительной пищи, для критиков, нуждающихся в работе полегче и приспособленной в их трудолюбию. Нельзя не порадоваться этой письменной промышленности, несколько оживившей застой нашей литературной торговли. Да могут-ли, спросят, при малом числе наших зажиточных промышленников в литературе, поддержаться достойным образом предприятия слишком частые и частные? Нет, без сомнения: некоторые альманашные домы, пораженные банкрутством, оказываются несостоятельными перед читателями своими. Падения эти прискорбны, но все предпочитаю их совершенной безжизненности на Парнасской бирже; к тому же, в числе сомнительных бумаг, пущенных в оборот, встречаются иногда бумаги верные, залоги надежные, которые выручить можно после. Одни журнальные монополисты гневаются; но, как мы уже сказали, до журналистов читателям дела нет. А как мы говоря, писатели созданы для читателей, а не для журналистов, хотя если спросишь у сих последних чистосердечного признания, то они готовы сказать, что и читатели и писатели созданы для них, как золотых дел мастер, в басне Красицкого, говорит, что носы созданы для табакерок. Но таковым мастерам золотых и журнальных дел можно сказать с Мольером: Vous êtes orfèvre M. Josse. Нет сомнения, что появление книг, занимательнейших по приятности и пользе, было бы утешительнее, но, простирая наши требования и надежды далее и выше, не станем с излишнею спесью и неуместным презрением отвергать и скроыное вспомоществование. Бедный сердится не на полтинник, который у него в кармане, а на то, что у него нет десяти рублей. Возьмем пример с него в нашей литературной бедности, и пока не разбогатеем, не станем прятать пустых рук в карман, когда добрые люди предлагают нам посильные подаяния.
Приступим к беглому обозрению шести альманахов, лежащих перед глазами, и начнем с совета покупателям и читателям книг: не верить нам на слово и, не смотря на приговоры наши, поверять их собственным испытанием; убедительно им советуем купить и прочесть все шесть альманахов, о коих идет здесь речь, и все предыдущие и в свое время все последующие. Русские книги, по сравнению, довольно дороги отдельно; но за то дешевы в общем годовом итоге. За несколько сот рублей в год поквитаетесь вы по совести с Русскою литературою.
Северная Лира может, кажется, быть призвана за представительницу Московских муз. Имена писателей, в ней участвующих, принадлежат по большей части Московскому Парнассу: не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя точно найдутся признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном. Вообще вся ваша литература мало имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неосязательное, облачное в её атмосфере. В климате Московском есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности. Впрочем, из этих туманов может еще проглянуть ясное утро и от них останутся одни яркия блестки на свежей зелени цветов. Один из издателей Северной Лиры, г-н Раич, уже знаком с выгодной стороны читателям; опыты другого носят признаки дарования. Судя по некоторым отрывкам, кажется, он занимается литературою восточных народов: такое изучение может принести много пользы нашей, если оно доведено будет с успехом до конца. Полуисполнения, как в других сферах, так и в литературе, ни к чему, или, по крайней мере, к немногому служат. Мало пользы, да и радости мало, видеть под маловажными статьями в прозе или в стихах отметку, что это подражание Персидскому, Арабскому, Монгольскому и проч. и проч. Такая пестрота даже и не ослепительна. Из сочинений г-на Раича, здесь помещенных, важнейшие – в прозе: Сравнение Петрарки и Ломоносова (по крайней мере думаем, что оно писано самим издателем, хотя под статьею означена одна заглавная буква: Р).; в стихах: Отрывок из Освобожденного Иерусалима; смерть Свенона. Вообще в характеристических сравнениях двух авторов бывает более полуистин, чем истины; более изысканности, насильственности, чем естественных прикосновений. Кто-то читал Риваролю сравнение Расина и Корнеля. Выслушав чтение, Ривароль сказал: «По моему мнению, можно сравнение наших трагиков сократить таким образок: общее в них, что тот и другой писали трагедии; разность, что одного звали Фома Корнель, другого Иван Расин». В сравнении Петрарки и Ломоносова, некоторые главные черты их, а особливо же первого, означены верно и живо, но, признаюсь, усматриваю редко точки, где эти черты сливались бы вместе. За исключением влияния того и другого на современную каждому поэзию, учености того и другого поэта и замечания, что Петрарка остался представителем Италианской литературы XIV века, Ломоносов считается представителем литературы Русской века Елисаветы, не понимаю: в чем и как хотел сочинитель сводить их? Не слишком-ли также увлекается он любовью в Итальянской словесности и Петрарке, когда радуется, как хорошей находке, что Ломоносов, «умел счастливо перенесть в свои творения много, очень много Итальянского и даже некоторые, так называемые concetti». Едва ли и подлинные concetti не безобразная прикраска Итальянских стихов, а заимствованные concetti на Русский лад и того хуже. Впрочем, вероятно в Ломоносове этот мишурный блеск не подражание, а просто погрешность, свойственная худому вкусу, не озаренному светом здравой критики, и насильственной игре воображения. В сей статье встречается забавная обмолвка. Автор говорит, что из Понтремоли в Неаполь пришел старец, и к тому же слепой, чтобы видеть Петрарку. Впрочем, за исключением основной мысли сего сравнения, которая по существу своему, как мы сказали выше, всегда сомнительна, и здесь, в применении к Петрарке и Ломоносову, кажется еще менее удовлетворительного, статья сия имеет неоспоримое достоинство литературное: в ней заметны сведения в Итальянской словесности, хороший слог, благородные чувства и направление ума благонамеренное. Опыты г. Раича в переводе Освобожденного Иерусалима уже известны читателям, также как и критические замечания, к коим они подали повод. Находят, что куплет, из 12-ти стихов г-на Раича, не отвечает итальянской октаве; что он не приличен поэме, потому что присвоен Жуковским балладе. Но какую же форму принять? Итальянская октава, по бедности нашей в рифмах, неприступна для большего творения. Александрийский стих слишком важен и утомителен со временем. Баллада принадлежит повествовательно-лирическому роду; поэма, разделенная на стансы, может также отнестись к роду лирико-эпическому. Сообразя все это вместе, мы готовы почти оправдать г-на Раича. Отлагая в сторону форму, должно признаться, что стихи переводчика часто живы и сочны, почти всегда звучны и вообще хороши. В отрывке: Смерть Свенона, язык вернее, строже и зрелее, чем в прежних опытах: в нем гораздо менее и почти вовсе не находится прежде встречавшихся заимообразных оборотов Жуковского, которые могут быть хороши у него, потому, что они его коренные, но становятся погрешными, когда они пересажены на чужую почву. По любви г-на Раича к Итальянской литературе и по сведениям его, должно желать, чтобы он короче познакомил нас с нею, предлагая нам в прозаических переводах и критическом рассмотрении лучших писателей Итальянских, стихотворцев и прозаистов. Переводы в стихах приятны и льстят более суетности переводчиков, но могущество стихотворства так сильно, что, забывая о подлиннике, мы судим перевод, как оригинальное творение; переводы в прозе полезнее, более действуют на язык, на который переводят, более пускают идей, образов в обращение и всегда совершеннее знакомят и сближают литературы и языки. На переводчике в стихах лежат две неволи, а и с одною справиться тяжело.
В числе хороших стихотворений, помещенных в Северной Лире и носящих подписи уже известные, отличаются начальные опыты поэта, в первый раз являющагося на сцене. Стихотворения Андрея Муравьева: Ермак, Воззвание к Днепру, Русалки, Отрывок из описательной поэмы: Таврида, исполнен надежд, из коих некоторые уже сбылись. Выпишем несколько стихов из Русалок:
Волнуется Днепр, боевая река,Во мраке глухой полуночи;Уж облако месяц прорезал слегкаИ неба зарделися очи.Широкия идут волна за волнойИ с шумом о берег биются,Но в хладном русле, под ревущей водой,И хохот и смех раздаются…Как под вечер звезды ясныеЗаиграют в небесах,Друг за другом, девы красныеВыплывают на волнах…Русы косы рассыпаяся,С обнаженных плеч бегут,По валам перегибаяся,Золотым руном плывут;Грудь высокая волнуетсяСладострастно между вод,Вал ревнивый полюбуетсяИ задумчиво пройдет;Руки дев, как мрамор белые,Подымаются, падут;То в восторге юной радостиБудят песнями брега,Иль с беспечным смехом младостиЛовят месяца рогаНад водою….Картина прелестная и во всех частях с искусством выдержанная: последняя черта удивительно игрива. Можно только заметить лишнее слово в стихе:
И хохот и смех раздаются –смех после хохота – вставка, и неправильное ударение в слове: русло. Ермак написан другою кистью: краски здесь мрачные и более силы в чертах; но в нем также есть живая поэзия в вымысле и выражении. Посреди имен известных и анонимов, в подписях Северной Лиры встречается загадочное имя: Делибюрадер. Вот одно из его стихотворений, с Арабского:
Нама
Уаль нашру мискун.Усть её дыханье –Мускус благовонный;А ланиты – розы;Зубы – млечны перла;Стан – лозы стройнее;Бедра округленны –Холмики песочны;Локоны густые –Мрак осенней ночи;А лицо сияет –Словно полный месяц.Скажите по совести: не правы ли мы, когда сказали, что мало радости и пользы от похищений такого рода, хотя и добыты они издалека? Пускай это и тому подобное с Арабского на Арабском языке и остается. Довольно нам и одного Греческого Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он древний и Грек, хотя в новейшие времена нередко за приятельскими пирушками встречаются свои Анакреоны; но для Европейской гордости нашей слишком уже будет оскорбительно, когда захотят колоть нам глаза Арабским анакреонтичеством. Отрывок из сочинения об искусствах носит ту же загадочную подпись. В сей статье, которая по большей части одна компиляция, но довольно искусно и живо составленная, полушуточно, полуучено, полумифологически, полуисторически, излагают мнения о могуществе музыки и степенях состояния её у разных народов. Письмо о Русских романах, или, правильнее, о возможности писать Русские романы, произведение г-на Погодина, умное и занимательное. Признаемся однакож, что, соглашаясь с ним во мнении, что у нас в истории встречаются предметы для поэтических романов, сомневаемся в богатстве наших материалов для романов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста. Жаль, что автор, в письме своем о Русских романах, задевает, как многие из наших комиков, погрешности условные, мнимые, а не существенные. Описывая, например, общество, в коем он находился, продолжает он: «Сперва похвалены были, как водится, все присутствовавшие взаимно друг другом». – Характеристическая-ли это черта наших нравов? Мало ли в наших блистательных собраниях встретится истинно смешного? За чем прибегать к общим, так сказать, давно заданным уликам? «Сколько есть у нас Тарасов Скотининых», говорит автор: и тут не метит он в цель. Тарас Скотинин и в комедии Фоневизина каррикатура, а не портрет. Пред пороком и глупостью не должно выставлять увеличительное зеркало: им это по руке. Они скажут: «мы себя здесь не узнаем» – и ваши исправительные меры останутся без успеха. Лучше дотрогивайтесь слегка, но задирайте всегда за живое, то есть, за истинное. Читатели найдут еще в Северной Лире произведения Гг. Шевырева, Титова, Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевского и некоторых других; все они более или менее отличаются или игривостью мыслей, или теплотою чувства, или живостью выражения. Одним словом, Северная Лира, посвященная издателями любительницам и любителям отечественной словесности, может во многих отношениях заслужить их признательность.
Если главный признак альманаха Северная Лира есть какое-то поэтическое стремление в темную даль или надоблачный и отчасти облачный эмпирей, то главный признак Календаря Муз есть, напротив, прозаическое уклонение в дольнему миру. Тут, как в силу какого-то закона литературного тяготения, все, более или менее, земное, житейское; во, впрочем, с движением к некоторому усовершенствованию, потому что Календарь Муз на 1827-й год лучше того, который мы видели в 1826-м. Отделение прозы, содержащее 8 повестей, или, по крайней мере, восемь статей в повествовательном роде, довольно разнообразно. Не знаем кого благодарить за них: писатели оных остались или в совершенной безызвестности, или некоторыми заглавными буквами захотели только подстрекнуть любопытство наше, а не удовлетворить ему. Впрочем, до имен дела нет. Отделение стихотворное – не поэтическая часть Календаря Муз. За исключением малого числа стихотворений, заключающих в себе некоторое достоинство, прочее могло бы остаться в рукописи для домашнего обихода. Переписка с кумами, крестниками, о зубной боли, о журнале Благонамеренном и проч., и проч., эпиграммы в роде следующей:
Как у тебя, брат, красен нос!– А вот-с:Пью белое вино-с….и тому подобное, теряет много от печати. Такие стихи, как некоторые домашния шутки, должно хранить про себя. Читатели Календаря Муз заметят здесь с удовольствием некоторые из эпиграмм А. Илличевского и остроумные стихи А. Измайлова, которые носят отпечаток Французской замысловатости. Выписываем их:
Любительнице кошек
(с гравированным изображением кота)
Вот самый смирный кот!Прошу принять его; от вас он не уйдетИ вам нисколько не наскучит;Он не царапает и даже не мяучит;Кормить не надобно: не ест да и не пьет,На стул или под стул его вы положите,И будет он лежать, не тронет ничего;Лишь дальше от мышей держите,А то они съедят его.Детский Цветник и Незабудочка не должны быть рассматриваены в литературном отношении. Посвященные детям, такие книги уже достигают своей цели, если удовлетворяют потребностям родителей и наставников, нуждающихся у нас в чтении для детского возраста. Скажут, что эти альманахи могли иметь более внутреннего достоинства, с лучшим согласием сочетать полезное с приятным, – не спорим; но, желая усовершенствования в книгах, посвященных детскому чтению, в сей немаловажной, хотя и не блестящей отрасли словесности народной, мы не менее того должны благодарить издателей Детского Цветника и Незабудочки хотя они, в особенности же последний, упражняются с успехом в науке: о легчайшем способе составлять книги. Если ни о том, ни о другом не скажешь по истине:
«Мать дочери велит труды его читать»,то по крайней мере скажешь: позволит, чего по совести не выговоришь о многих детских книгах, у нас издаваемых; они большею частью, по содержанию своему, и по языку и по слогу, кажется, составлены не с тем, чтобы приучать к чтению, а от него отучать. Подумаешь, что они издаются не только безграмотными по нечаянности, но и по системе, Омарами нового рода.
Отрадное упование, что в мире все стремится в возможному усовершенствованию, оправдывается Невским Альманахом на 1827 год. Он, против прошлогоднего, испытал счастливое превращение как в наружном, так и во внутреннем достоинстве. Остается ему еще много шагов впереди по сей стезе улучшиваний, тем более, что и Невский Альманах, как все альманахи и все человеческое, не могут достигнуть заветного совершенства; но все же есть движение вперед, которое нельзя оставить без внимания литературному оптимисту. Замок Эйзен, Эстляндская повесть, занимает в сей книге почетное место в прозаическом отделении. Она рассказана с большою живостью и увлекательностью и точно более рассказана, чем написана: некоторым из ученых письменников, вероятно, покажется, что в ней слишком много известной своевольности и слишком мало письменного благочиния.
Несколько слов из Гайдамаков, Малороссийской были (составляющих, вероятно, отрывок из целого, потому что конца тут не видно), хотя и не имеют быстроты и оригинальности в слоге предыдущей повести, но не менее того заманчивы и приятны. Картина Малороссийской ярмарки блестит живыми и местными красками: лица хорошо означены, в событиях есть движение и занимательность. Не станем по частям разбирать сии два опыта повествовательные, посоветуем читателям познакомиться с ними. В добрый час промолвить, а в дурной промолчать – с легкой руки Вальтера Скотта и у нас зашевелилось что-то в области романической. Доныне покушения были маловажные, односторонния, подражания более некоторым замашкам Вальтера Скотта, чем духу его; но, придерживаясь литературному оптимизму, станем ждать лучшего, да лучшего, и наконец хорошего. Чтобы достигнуть до степени Вальтера Скотта, идя даже идти далеко за ним, но по одной дороге, нужно не одно дарование, воображение, потребны в тому и многое, к чему у нас еще нет доступа и некоторое всеведение, всеобъемлемость, коих у нас нет еще в обращении.
За достоинство части стихотворной Невского Альманаха ручаются имена Языкова, Козлова, Туманского и некоторых других, участвовавших в ней своими произведениями. Языкова Послание к друзьям кипит живостью и отвагою необыкновенными, особливо же в первой и последней трети. О стихах Языкова можно сказать то, что он в начале Послания говорит о днях своей молодости:
Те дни летели, как стрела,Могучим кинутая луком;Они звучали ярким звукомРазгульных песен и стекла;Как искры, брызжущие с сталиНа поединке роковом,Как очи, светлые вином,Они пленительно блистали.В последних восьми стихах лучшая характеристика стихов Языкова.
Зубная боль и здесь была вдохновением поэтическим, как и в Календаре Муз. Из стихов г-на Панаева узнаем, что он страдал от жестокой зубной болезни, и вылечен был по милости красавицы, нам неизвестной. Грешно ему, что он утаил её имя. Объявив о нем, оказал бы он важную услугу многим страдальцам, подвергнутым сей несносной боли: они знали бы к кому прибегать в крайности. И тогда можно было бы сказать о стихах по Французскому выражению: le remède est à côté du mal. Кстати о зубах и об эпиграмме г-на Панаева, здесь же помещенной, вспомнили мы, что Д*** называет некоторые эпиграммы беззубыми. Мы заметили с своей стороны, что в этой эпиграмме отзывается большой навык в роду идиллий.
Памятник Отечественных Муз драгоценен по многим отношениям. Издатель его собрал на жатве литературной забытые колосья и цветы, оставшиеся по следам многих знаменитых писателей ваших, умерших и живых, и заслуживает благодарность соотечественников, не равнодушных к именам, озаряющим литературную нашу славу. Имея в руках своих богатый запас прошедшего, освященный смертию, или хотя еще живою, но по крайней мере уже испытанною в горниле времени, славою, тем менее должен он был сочетать с светлыми именами Державина, Карамзина, Фон Визина, Суворова и некоторых других, имеющих постоянное право на внимание наше, имена темные и мало значительные. Издатель говорит в предисловии своем, что тени нужны и неизбежны в самой лучшей картине; но Памятник Отечественных Муз – не картина, а храмина и должен быть пантеоном памятных мужей, а не всемирною сходкою, где Бавий возле; Горация, великан вместе с карлами, поэты с рифмачаии. Напрасно издатель извиняется перед читателями в помещении своих собственных стихов: критики не на них укажут, если пришлось бы им требовать исключения из его собрания, хотя неоспоримо, что оно более отвечало бы своему заглавию и назначению, если издатель ограничился-бы одним побором с вершин нашего Парнасса. Не должно полагать, что произведения знаменитых писателей, здесь помещенные, могут все служить новыми залогами в правах их на славу, уже опирающуюся на твердом основании, но каждое из них возбуждает в нас или умилительные воспоминания, или чувства признательности и уважения, или новое участие любопытства, которое дорожит всякою приманкою для его ненасытной жадности. Разумеется, слава певца Фелицы не озарится новым блеском от стихов его, помещенных в Памятнике; но кто не порадуется находке следующих стихов его: