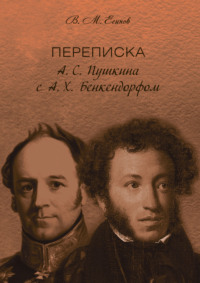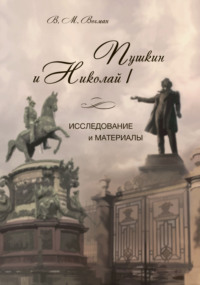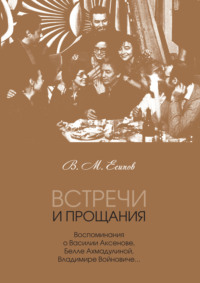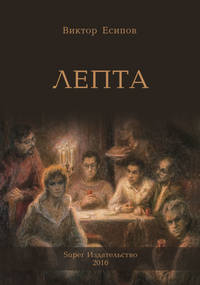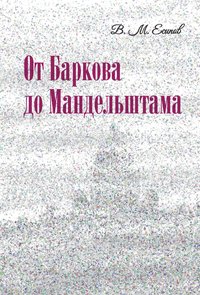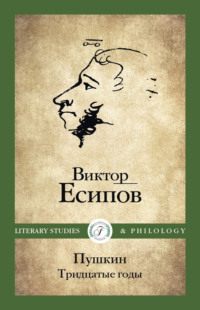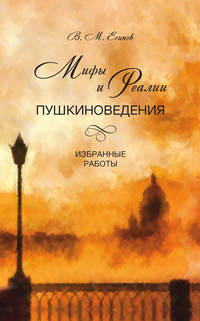Полная версия
Божественный глагол (Пушкин, Блок, Ахматова)
Только за время пребывания в Одессе, с июля 1823 по июль 1824 года, Пушкиным написано около 30 лирических стихотворений, в том числе «Ночь», «Надеждой сладостной младенчески дыша…», «Демон», «Простишь ли мне ревнивые мечты…», «Свободы сеятель пустынный…», «Телега жизни», первые редакции столь крупных и значительных стихотворений, как «Недвижный страж дремал на царственном пороге…» и «К морю», произведена окончательная отделка и подготовка к печати «Бахчисарайского фонтана», начаты «Цыганы» (черновая редакция первых 145 стихов), окончена глава первая (начата 9 мая 1823 года в Кишиневе), полностью написана глава вторая и значительная часть главы третьей «Евгения Онегина». Кроме того, он вел интенсивную литературную переписку с друзьями и знакомыми в Петербурге и в Москве. Адресатами его писем были А. А. Бестужев, П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, А. И. Тургенев, А. А. Шишков, Н. И. Кривцов и др.
Забавно читать в связи с этим, что Воронцов в конце 1823 – начале 1824 года, как мы уже отмечали, предлагал Вигелю склонить поэта «заняться чем-нибудь путным», а в уже цитированном нами письме Лонгинову от 8 апреля 1824 года характеризовал Пушкина как человека, который «ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лености».
За это же время имя Пушкина не сходило со страниц литературных изданий. О нем писали в «Отечественных записках», «Соревнователе просвещения», «Полярной звезде», «Сыне отечества», «Литературных листках» и, наконец, в лондонском «Westminster Review», чего англоман Воронцов не мог не знать. В это же время в различных изданиях выходили стихи и поэмы Пушкина. М. П. Погодин 23 сентября 1823 года записал в дневнике: «Государь, прочтя Кавказского пленника, сказал: надо помириться с ним»[50]. Тургенев 11 марта 1824 года пишет Вяземскому: «Что же “Фонтан” по сию пору на нас не брызжет? Не забудь прислать получше экземпляр для императрицы»[51].
А у Воронцова слава Пушкина вызывала откровенное раздражение, и он обращал внимание Нессельроде на «восторженных поклонников», которые напрасно кружат голову Пушкину, уверяя его, «что он замечательный писатель»!
Воронцов не только не понимал, что Пушкин – Поэт, и не придавал этому никакого значения, он не воспринимал Пушкина и как личность, считая что тот не работает «постоянно для расширения своих познаний», которых у «него недостаточно». И такое суждение выносилось о Пушкине, которого через два с небольшим года новый император Николай I назовет умнейшим человеком России (что не сделает, впрочем, жизнь поэта безоблачной и не избавит его от коллизий с властью, но это уже другая тема: «Поэт и царь»). Такое суждение высказал Воронцов о Пушкине, колоссальная осведомленность которого в самых различных вопросах мировой истории и литературы поражает воображение многочисленных пушкинистов на протяжении почти 170 лет, прошедших со дня его гибели.
При этом все же следует признать, что высокомерное отношение Воронцова к поэту и к делу поэта не являлось каким-то невероятным, чудовищным недоразумением: нет, для сановников это было в порядке вещей. Российские сановники в подавляющем большинстве своем никогда не понимали (и не понимают сейчас) значения поэта и его деятельности. Так, после смерти Пушкина председатель Цензурного комитета и попечитель С.-Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков был возмущен некрологом, опубликованным в «Литературном прибавлении к Русскому Инвалиду» в связи со смертью Пушкина, и отчитал за него редактора А. А. Краевского:
«Я должен вам передать, – сказал попечитель Краевскому, – что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никогда никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда ни шло! Но что за выражения! “Солнце поэзии!!” Помилуйте, за что такая честь? “Пушкин скончался… в середине своего великого поприща!” Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж!? Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще!»[52]
Тирада Уварова по сути совпадает со сказанным Воронцовым Вигелю в конце 1823 – начале 1824 года (мы это уже цитировали): «Помилуйте, такие люди умеют быть только великими поэтами, – отвечал я (Вигель. – В. Е.). Так на что же они годятся? – сказал он».
Но со временем Воронцов, возможно, изменил свое мнение, во всяком случае, известен его довольно сочувственный отклик на известие о смерти поэта: «Мы все здесь удивлены и огорчены смертию Пушкина, сделавшего своими дарованиями так много чести нашей литературе»[53]. Правда следующая фраза его письма свидетельствует о том, что он и тогда столь же плохо понимал поэта, как 13 лет назад: «Еще более горестно думать, что несчастия этого не было бы, если бы не замешались в этом деле комеражи, которые, вместо того, чтобы успокоить человека, раздражали его и довели до бешенства»[54]. Все дело, по его представлению, было «в комеражах», которых поэт не сумел вынести и дошел до бешенства. Неясно к тому же, как эти «комеражи» могли бы «успокоить человека»? Нельзя также не привести здесь не лишенный определенных оснований саркастический комментарий И. С. Зильберштейна к сочувственному будто бы письму Воронцова:
«Несомненно, что лицемерно-сочувственные строки Воронцова о гибели поэта вызваны были желанием хитрого царедворца отделить себя в глазах общества от врагов Пушкина. Это предположение подтверждает записка М. И. Лекса (адресата Воронцова. – В. Е.) к В. А. Жуковскому от 25 февраля 1837 г.: “Имею честь препроводить при сем выписку из письма графа М. С. Воронцова. Он достойно чтит память незабвенного Пушкина и чрез то усиливает свои права на общее уважение”»[55].
Очень может быть, что сочувственные слова Воронцова не в последнюю очередь вызваны были желанием «усилить свои права на общее уважение». А вот Уваров и Дондуков-Корсаков такого желания, судя по всему, не имели.
Однако у времени свои критерии. И вот почти через 125 лет после смерти Пушкина другой русский поэт, Анна Ахматова, как бы подвела итог полемике о статусе поэта, в частности о том, сопоставимо или не сопоставимо его поприще с поприщем министра или полководца:
«Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий»[56].
Воронцову повезло больше. Его имя осталось в истории России и в литературе – не только в пушкинских эпиграммах и письмах, не только в толстовской повести, но и в весьма лестной для него строфе баллады Жуковского «Певец во стане русских воинов». Но тут уместно отметить, что сам Жуковский после удаления в 1824 году Пушкина из Одессы, судя по некоторым фактам, не расположен был лично общаться с Воронцовым:
«Описывая случайную встречу Воронцова и Жуковского на почтовой станции близ Дерпта (Тарту) в октябре 1827 г., нечаянный ее свидетель, английский врач А. Грэнвил, замечает, что Воронцов с большим почтением обращался к Жуковскому, последний же, хотя он и Воронцов ехали в одном направлении, без особых церемоний умчался вперед – “очевидно, очень торопясь”, добавляет рассказчик»[57].
Да, эпоха, по справедливому замечанию Ахматовой, стала называться пушкинской. Совсем иное значение приобрел статус поэта в России. Свершилось то, о чем мечтательно рассуждал Жуковский в письме к Вяземскому из Дрездена (26 декабря 1826 года):
«Нет ничего выше как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделался бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более твоих предшественников… ”»[58]
Недаром наш современник, автор многих и разных поэтических деклараций, провозгласил, что «поэт в России больше, чем поэт». Кажется, тут он не ошибся. Этому новому статусу поэта Россия обязана Пушкину.
Есть в «Сказке о золотом петушке» такое признание:
Но с иным накладно вздорить, —Пушкин, как известно, подразумевал под «иным» царя. И вот сегодня возникает соблазн воспринимать эту строчку в обратном смысле: напрасно Новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабии граф Михаил Семенович Воронцов так недостойно «вздорил» с Поэтом, не прибавило это славы его имени…
2006
«Оставя честь судьбе на произвол…»
(Пушкин и Аглая Давыдова)
С Аглаей Антоновной Давыдовой, женой генерал-майора в отставке Александра Львовича Давыдова, Пушкин встретился в селе Каменка Чигиринского уезда Киевской губернии, имении Е. Н. Давыдовой, матери Александра Львовича. Приезд его в Каменку с разрешения благоволившего к нему кишиневского начальника генерала И. Н. Пн-зова датируется 18–22 ноября 1820 года. С перерывами для поездок в Киев и Тульчин пребывание Пушкина в Каменке затянулось до 3 марта 1821 года. Тут и пережил он очередное романтическое увлечение.
Аглая Антоновна (1887–1847), француженка по происхождению, дочь герцога де Граммон, была на 14 лет моложе мужа, с которым познакомилась семнадцатилетней девушкой в 1804 году в Митаве, центре французской эмиграции в России. Она была хороша собой и нередко становилась предметом любовных домогательств. В одном биографическом очерке конца XIX века Аглая Антоновна характеризовалась как особа «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая», которая «как истая француженка, искала в шуме развлечений средство не умереть со скуки в варварской России»[59]. Известны стихи Дениса Давыдова, двоюродного брата Александра Львовича, обращенные к нашей героине в 1809 году, где она предстает в образе роковой женщины:
… Мать страшится называть тебяСыну, юностью кипящему,И супруга содрогается,Если взор супруга верногоХотя раз, хоть на мгновениеОбратиться на волшебницу.По утверждению сына Дениса Давыдова, во время военных действий 1812 года «от главнокомандующего до корнетов всё жило и ликовало в Каменке, но главное – умирало у ног прелестной Аглаи»[60].
Во время пребывания Пушкина в Каменке Давыдова отнюдь не утратила еще своей привлекательности, и, судя по всему, между ними возник непродолжительный роман. Об этом есть кое-что в воспоминаниях И. П. Липранди, на ту же мысль наводят пушкинские стихи, обращенные к ней (их мы рассмотрим чуть позже), ее имя присутствует в первом так называемом Дон-Жуанском списке Пушкина. В рукописях Пушкина имеются изображения Аглаи и ее дочери Адели, относящиеся, правда, к более позднему времени, выявленные в свое время Т. К. Галушко[61].
Мы не располагаем достоверными сведениями о том, встречался ли Пушкин с Аглаей после марта 1821 года. По-видимому, в 1822–1823 годах она переселилась в Петербург, где дочери ее были приняты в Екатерининский институт, в связи с чем упомянуты в дневнике А. О. Смирновой-Россет, учившейся там же[62].
В конце 1820-х годов Аглая Давыдова вместе с дочерьми уехала в Париж, где через какое-то время после смерти мужа (1833) вышла замуж за генерала Ораса Себа де ля Порта, впоследствии ставшего министром иностранных дел Франции.
Что касается стихов, которые пушкинисты связывают с Аглаей, то тут можно с уверенностью утверждать: они написаны уже после того, как романтическое увлечение Пушкина кончилось и на смену ему пришло нескрываемое чувство неприязни. Всего этих стихотворений пять, приводим их названия в последовательности, учитывающей предполагаемое нами время написания:
Кокетке,
Эпиграмма («Оставя честь судьбе на произвол…»),
«А son amant Egle sans resistansce…»,
«J’ai possede maitresse honnete…»,
«Иной имел мою Аглаю…».
Первым, было, по-видимому, стихотворное послание предмету недавнего увлечения – стихотворение «Кокетке» (во всяком случае, черновой его вариант). Затем была написана «Эпиграмма» («Оставя честь судьбе на произвол…»), которая датируется 5 апреля 1821[63]. Через два месяца, в начале июня (1–5 июня) Пушкин вновь не по-доброму вспоминает Аглаю – пишет в ее адрес на французском языке еще две эпиграммы[64]. И завершает список эпиграмма «Иной имел мою Аглаю…», которая могла появиться в интервале времени между декабрем 1820 и 24 января 1822 года.
Стихотворения эти, написанные приблизительно в одно время, являют собой уникальный случай в творчестве Пушкина: такому массированному уничижению не подвергалась ни одна женщина из тех немногих, что в силу каких-либо причин становились в разное время объектом его неприязни. Все стихотворения, за исключением первого, являют собой пример откровенной грубости, а второе («Оставя честь судьбе на произвол…») – еще и непристойности, оставляющей, скажем прямо, неприятное чувство. При этом, судя по всему, Пушкин не делал из них секрета (не для того они были написаны!), и они, по-видимому, доходили до Аглаи, что можно предположить по уже упоминавшимся воспоминаниям Липранди, относящимся к марту 1822 года:
«Он (А. Л. Давыдов. – В. Е.) приехал в Петербург с женой и дочерью, которые отправлялись за границу. Обедали мы вчетвером, и я заметил, что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ея с большим участием о нем расспрашивал. Я слышал уже неоднократно прежде о ласках Пушкину, оказанных в Каменке и слышал от него восторженные похвалы о находившемся там семейном обществе, упоминалось и об Аглае. Потом уже узнал я, что между ней и Пушкиным вышла какая-то размолвка, и последний наградил ее стишками!»[65]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Клеймили графа почем зря. А зря» // Парламентская газета. № 137 (1266). 25 июля 2003.
2
Забабурова Н. В. «Могучей страстью очарован…» // Культура (РЭГ). № 4 (34). 24 февраля 2000.
3
Интересно было бы спросить уважаемого автора, кем «приписанные»? Ни в одном из собраний соч. Пушкина «стишков» про саранчу нет.
4
Сквозников В. Д. Пушкин. Историческая мысль поэта. М.: Наследие, 1999. С. 29. «Второй эпизод», обративший на себя внимание уважаемого автора, с Воронцовым никак не связан. Он относится к Болдинской осени 1830 года, во время которой, к возмущению Сквозникова, Пушкин не принял участия в «укреплении и упорядочении карантинов (холерных. – В. Е.)». Заметим на это, что прими Пушкин «благодетельное предложение уездного предводителя дворянства» – и мы не досчитались бы в его наследии нескольких шедевров, написанных им в ту благословенную осень, а то и вся она могла оказаться столь же бесплодной в творческом отношении, как болдинская осень 1834 года! Зато мы имели бы отличный поступок Пушкина-дворянина. Видимо, В. Д. Сквозников представляет себе творческий процесс в духе наивной утопии Маяковского из поэмы «Хорошо»: «Землю попашет / попишет стихи…»!
5
Рассадин С. Б. Русские, или Из дворян в интеллигенты. М.: Книжный сад, 1995. С. 24.
6
Саводник В. Ф., Сперанский М. Н. Комментарий к Дневнику Пушкина // Дневник А. С. Пушкина. М.: Три века, 1997. С. 487.
7
См. об этом: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб., 1998. С. 470.
8
Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 19 т. Т. 6. М.: Воскресенье, 1995. С. 411–412. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию, при необходимости ссылки даются в тексте, как здесь.
9
Вересаев В. В. Спутники Пушкина: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. спорт, 1993. С. 365.
10
Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым 1820–1823. СПб.: Изд. графа С. Д. Шереметьева, 1899. С. 327–328.
11
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 6. М.: Изд. Русского архива, 1892. С. 172.
12
Абрамович С. К истории конфликта Пушкина и Воронцова // Звезда. Л., 1974. № 6. С. 194.
13
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 1. М.: Слово, 1999. С. 376.
14
Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. СПб.: Искусство-СПб., 1999. С. 143.
15
Саводник В. Ф., Сперанский М. Н. Указ. соч. С. 492.
16
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. С. 383.
17
Аринштейн Л. М. К истории высылки Пушкина из Одессы // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л.: Наука, 1982. С. 293.
18
Там же. С. 384.
19
Там же.
20
Вигель Ф. Ф. Записки.: В 2 кн. Кн. 2. М.: Захаров, 2003. С. 1103.
21
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. С. 336.
22
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1974. С. 342.
23
Саводник В. Ф., Сперанский М. Н. Указ. соч. С. 490.
24
Абрамович С. К истории конфликта Пушкина и Воронцова // Звезда. Л., 1974. № 6. С. 192.
25
Соответствующее свидетельство Ф. Ф. Вигеля приводится ниже (с. 28).
26
Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: Гиперион, 2003. С. 195.
27
Липранди И. 77. Из дневника и воспоминаний // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1974. С. 342.
28
Там же.
29
Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избранные труды (1898–1928). СПб.: Искусство-СПБ., 1999. С. 146.
30
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 1121.
31
Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. С. 146–147.
32
Абрамович С. Указ. соч. С. 195–196.
33
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. С. 416–417.
34
Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман…» // Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997. С. 324.
35
Остафьевский архив. Т. III. С. 73–74. Coup de grace – добивающий удар.
36
Самойлов Д. Святогорский монастырь // Равноденствие. М.: Худ. лит., 1972. С. 148–149.
37
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 880.
38
Там же. С. 907.
39
Там же. С. 880.
40
Виге. ль Ф. Ф. Указ. соч. С. 1187–1188.
41
Модзалевский Б. Л. Объяснительные примечания к Дневнику Пушкина // Дневник А. С. Пушкина. М.: Три века, 1997. С. 143.
42
Пушкин А. С. Письма. Т. II. М.; Л.: Госиздат., 1928. С. 309.
43
Маркевич Б. М. Поли. собр. соч: В 11 т. Т. 11. М., 1912. С. 397.
44
Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Л.: Наука, 1977. С. 377.
45
Записки сенатора К. И. Фишера // Исторический Вестник, 1908. № 2. С. 449.
46
Пушкин А. С. Письма. Т. II. С. 309.
47
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 14. М.: Худ. лит., 1983. С. 58.
48
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 14. С. 59–60.
49
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 825.
50
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 342.
51
Остафьевский архив. Т. 3. С. 17.
52
Вересаев В. Пушкин в жизни. Минск: Мастацкая литература, 1986. С. 598.
53
Литературное наследство. Т. 58. С. 44.
54
Там же.
55
Там же.
56
Ахматова А. О Пушкине. Л.: Сов. писатель, 1977. С. 6.
57
Аринштейн Л. М. Указ. соч. С. 297.
58
Литературное наследство. Т. 58. С. 60.
59
Лобода А. М. Пушкин в Каменке // Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями университета ев. Владимира. Киев, 1899. С. 95.
60
Ходасевич В. Аглая Давыдова и ея дочери // Современные записки. Вып. LVIII. Париж, 1935. С. 229.
61
См.: Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 153–154. Также Галушко Т. «Раевские мои…». Л.: Лениздат, 1991. С. 123–125.
62
См.: Ходасевич В. Аглая Давыдова и ея дочери. С. 237.
63
Датировка стихотворений приводится по «Летописи жизни и творчества Пушкина в четырех томах». Т. 1. М.: Слово, 1999.
64
Датируется предположительно.
65
Липранди И. 77. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1866. № 10. С.1485.