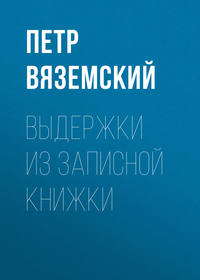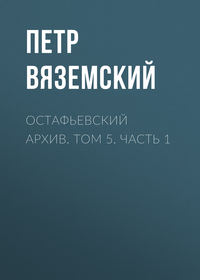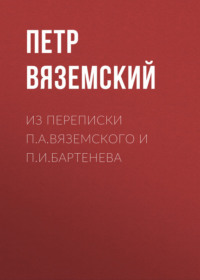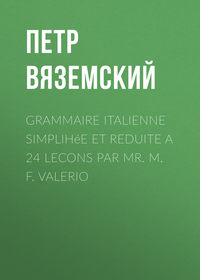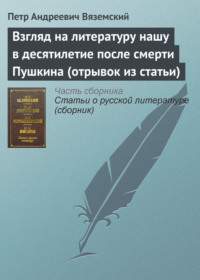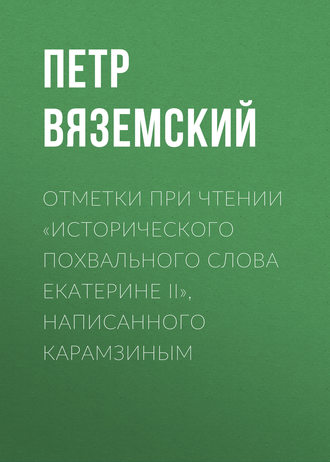 полная версия
полная версияОтметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным
«Европа удивлялась счастию Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть редкое счастие; но кто думает, что темный, неизъяснимый случай решит судьбу государств, а не разумная или безрассудная система правления, тот по крайней мере не должен писать истории народов. Нет, нет! феномен монархини, которой все войны были завоеваниями и все уставы счастием империи, изъясняется только соединением великих свойств ума и души».
Все это так просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный в таинства искусства, может подумать, что и каждый сумел бы так изъясниться; но дело в том, что кроме здравой мысли здесь есть еще и здравое выражение, плод многих и обдуманных изучений языка и свойства его.
При всей изящности языка и самого изложения должны, разумеется, встретиться в похвальном слове прикрасы чеканки, некоторые, так сказать, литературные чинквеченто, ныне для нас странные и обветшалые.
Например: «Чтобы утвердить славу мужественного, смелого, грозного Петра, должна через сорок лет после его царствовать Екатерина; чтобы предуготовить славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр; так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить натуру к теплому влиянию зефиров!»
Мы теперь готовы открещиваться от этого зефира, от этого языческого наваждения. Но в то время зефиры со всей братьею, со всеми сестрами своими были добрыми домовыми литературы; и писатели, и читатели дружелюбно уживались с ними. Укорять Карамзина, что и он знался с ними и говорил, например, в другом месте: «Земледельцы, сельскою добродетелию от кнута на ступени Фемидина храма возведенные» и проч.; укорять его в сих баснословных приемах то же, что сказать: Карамзин, говорят, был пригож в своей молодости, но жаль, что он имел несчастную привычку пудрить волоса свои. А между тем все пудрились.
Впрочем, что же тут особенно худого в этих древних преданиях, имеющих иногда глубокий смысл и всегда много поэзии? Греческое баснословие положено в основу Европейского просвещения. Следовательно, слишком пренебрегать им не подобает. Величайшие умы, неподражаемые художники, красноречивейшие святые отцы более или менее воспитаны были и образовались в этой языческой школе.
Каждый век, почти каждое поколение имеют свою критику, свое литературное законодательство. Ныне, если дело пойдет на сравнение, мы почерпаем его в науках точных, в медицине, в реальном производстве, в механике, в фабричной промышленности. Все идеальное забраковано, заклеймено печатью отвержения. Но неужели думать нам, что и мы, по выражению Карамзина, творим во время, а потому для вечности? Едва ли. Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20-й век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние, страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать? Может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали.
Мы не говорим здесь исключительно о Русской литературе, но вообще о литературе Европейской.
Заметим мимоходом, что в похвальном слове ни разу не встречается слово сословие, хотя, разумеется, не раз упоминается о том, что оно ныне выражает. Карамзин везде говорит: или государственные чины, или среднее политическое состояние, мещанское состояние, три государственные состояния и так далее. В самом конце нет этого слова. Там, например, отделение VII озаглавлено: о среднем роде людей. Род, конечно, не хорошо, но все же лучше, нежели сословие. Любопытно было бы исследовать, с которого времени и с чьей тяжелой руки пущено в обращение и водворилось в нашу речь это безобразное, неуклюжее и в противность этимологии и логике составленное слово?
XДо сих пор говорили мы о Екатерине словами Карамзина, примешивая к ним иногда и свои. Ныне заключим и, можно сказать, увенчаем статью собственными словами и мнением Императрицы о Наказе своем, важнейшем из письменных трудов ее, и который, вероятно, она наиболее любила и уважала. Фридрих Великий изъявил желание ознакомиться с ним. Екатерина послала ему перевод Наказа на немецком языке при письме своем. Письмо это, кажется, доныне не было напечатано. Извлекаем из него все то, что прямо относится до Наказа и до воззрение автора на свой труд. Не должно забывать притом, что приличие и условие авторской скромности побуждали ее не придавать большой и особенной важности произведению своему. Вот что, между прочим, писала Екатерина Фридриху II из Москвы 17 октября 1767 года: «Согласно с желанием Вашего Величества приказала я сегодня передать вашему министру графу Сольмсу Немецкий перевод Наказа (de l'instruction), который дала я, для преобразования (réformation) законов в России. Ваше Величество не найдет в нем ничего нового, ничего такого, что было бы Вам неизвестно. Вы увидите, что я поступала, как ворон в басне, который сделал платье себе из павлиных перьев. Мое тут одно расположение содержания (l'arrangement des matiures) и кое-где строка, слово; если бы собрать все, что я от себя к сему приложила, то думаю, не окажется тут более двух или трех листов. Большая часть извлечена из духа законов президента Монтескье и из трактата о преступлениях и наказаниях маркиза Беккария. Я должна предварить Ваше Величество о двух вещах: одна, что Вы найдете несколько мест, которые, может быть, покажутся Вам странными. Прошу Вас не забывать, что я часто должна была приноравливаться (m'accomoder) к настоящему, а между тем не заграждать дороги к будущему, более благоприятному. Другая вещь та, что Русский язык гораздо более Немецкого силен и богатее в выражениях и более Французского богать в свободной переноске слов».
«Мне было бы очень чувствительным знаком дружбы Вашего Величества, если бы согласились сообщить мне мнения свои о недостатках и погрешностях (les defauts) этого произведения. Ваши мнения не могли бы не просветить меня на пути столь для меня новом и трудном, и моя послушность (docilité) для исправления показала бы Вашему Величеству неограниченную цену (le cas infini), которую придаю и дружбе вашей, и вашим сведениям, и просвещению (lumière)».